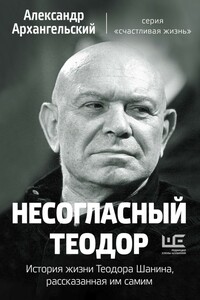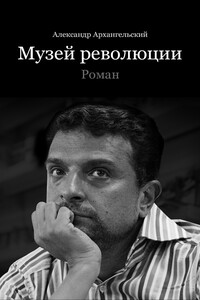Русофил | страница 39
С Ефимом Григорьевичем мы до этого не встречались ни разу. Всё-таки в пятидесятые я скорее был заезжий москвич, а не петербуржец (или ленинградец). А он в Ленинграде читал свои блестящие лекции, вёл себя совершенно бесстрашно, открыто выступал в защиту Бродского, общался с Солженицыным, хранил один из экземпляров “Архипелага ГУЛАГ” и имел ауру гения; вокруг него всегда было множество учеников и ещё больше учениц. Но его лишили всех учёных степеней и работы в ленинградском пединституте имени Герцена. Узнав, что он готовится к эмиграции, мы немедленно начали переговоры с деканатом в Нантере, выкроили под него профессорскую должность, так что он приехал на условиях, немыслимо лучших, чем у любого учёного или князя первой волны. Не работа водителем такси, а готовая кафедра.
Он своё везение не очень сознавал, принял всё как должное. Отличный лектор, со своим ораторским шармом, он был щедр, не придерживал для себя ни одной идеи, раздавал мысли направо и налево. Наши интеллектуалы чаще всего действуют наоборот, приберегают находки и открытия до следующей книги. Настоящее счастье, что я с ним сотрудничал! Мы вместе сделали многотомную “Историю русской литературы”, вышедшую по-французски в издательстве Fayard. С нами работали итальянец Витторио Страда, знаменитый профессор из Венеции, и ещё один бывший советский учёный – Илья Захарович Серман, которого тоже выгнали из Советского Союза. То есть подарили нам. Знаете, это как задача из советского учебника: через одну трубу вода выливается из бассейна, через другую наливается; что быстрее происходит, наполнение или опустошение?
Ефим Григорьевич со своим знанием немецкой, английской, французской, частично итальянской, частично испанской культуры был настоящим русским европейцем. Он обожал читать стихи перед аудиторией, умел это делать блестяще, но иногда, так сказать, предвзятым образом. Однажды мои студенты возмутились этой его манерой. Речь шла о басне, французской и русской. Эткинд для начала дал первичный вариант Эзопа, потом французскую версию Лафонтена, затем русскую – Крылова. Скорее всего, речь шла о “Стрекозе и Муравье”. Эзопа он читал нейтрально, Лафонтена – очень плохо, а Крылова – просто прекрасно, с такими богатыми интонациями, что дух захватывало. И сделал вывод:
– Сами видите, насколько Крылов превосходит Лафонтена…
Студенты обиделись и даже пришли в ярость: как можно быть таким несправедливым!
Заочно общался я с близким другом Вадима Козового, филологом Гариком Суперфином, который сейчас живёт в Германии, в Бремене, а иногда в Москве. Он участвовал в издании подпольной “Хроники текущих событий”, помогал Солженицыну подбирать материалы для “Красного колеса”. В 1973-м его посадили, а затем отправили в ссылку. Он мне прислал несколько длинных писем из Казахстана, описывая старый и новый ГУЛАГ. Удивительным образом эти письма из глухого казахского угла доходили до моей савойской деревушки, проскальзывая сквозь цензуру. Просто какое-то чудо.