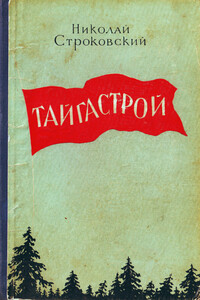Любавины | страница 22
– Двадцать.
– Ну вот. Ты, я вижу, в мать свою. Та до тридцати лет все краснела, как девушка.
В сельсовете взяли список наиболее зажиточных семейств.
– Не получится это у вас, – любезно сказал Колокольников. – Не будут строить.
– Посмотрим.
– Весна как раз пришла. У каждого своей работы...
– По пять дней отработают – ничего не случится.
– Опробуйте, конечно...
В первом же доме, у Беспаловых, хозяин, добродушный зажиревший мужик с узкими внимательными глазками, выслушал их, прямо и просто сказал:
– Нет.
– Почему?
– Это же дело добровольное?
– Конечно.
– Ну вот. Мне это не подходит. Некогда.
– Один день...
– Ни одного. Даже посмотреть на нее не пойду.
В другом не менее категорично, но более ядовито объяснили:
– Наши голодранцы церкву без нас ломали? Ну и школу пусть без нас строют. А то – умные какие... Разлысили лоб. Вот к им и идите. К голож...
– Без выражений можно?! – обозлился Платоныч. – Вам же школа-то нужна.
– Кому нужна, тот пускай строит. Нам без нее хорошо живется.
На улице Платоныч задумался.
– Крепкий народ. Неужели все такие?
– Мы неправильно сделали, что к богатым пошли, – сообразил Кузьма.
– Пожалуй, – согласился Платоныч. – Пойдем подряд, без разбора.
Игнатий Любавин жил на заимке. Один.
До девятнадцатого года торговал Игнатий в городе, имел лавочку, дом большой. А в девятнадцатом все отобрали. Но он кое-что успел припрятать. Даже золотишко, наверно, имел. Долго не раздумывая, отгрохал за деревней дом, купил штук двадцать ульев и зажил припеваючи. Не жаловался. Вслух.
Это был сухой, благообразный старик метра в два ростом. Тихий... Все покашливал в платочек – привычка такая была – и посматривал вокруг ласково, терпеливо, с легким намеком на скрытое страдание.
Они с Емельяном были сводные братья – от разных матерей. Роднились плохо. Редко бывали друг у друга – только по надобности какой.
Емельян Спиридоныч не выносил старшего брата. За скрытность. «Никогда не поймешь, что у него на уме. Темно, как в колодце», – говорил Емельян. Игнатий отвечал тем же. И в минуты нехорошей откровенности, посмеиваясь, высказывал, что думал о Емельяне Спиридоныче: «Крепкий ты, Емеля, как дуб, и думаешь, что никакая сила тебя не возьмет. А дуб срубить легко».
Приехали к Игнатию уже при солнце.
Дорогой Кондрат несколько раз просил остановиться – голову раскалывала страшная боль. Один раз даже вырвало.
– Света белого не вижу, – шептал он бескровными губами. – Устосовали они меня...
Стояли несколько минут, потом тихонько трогались дальше.