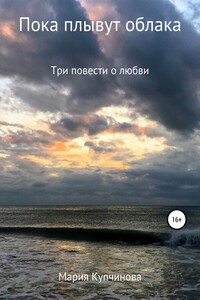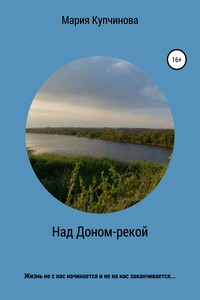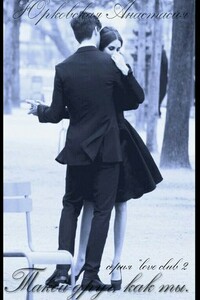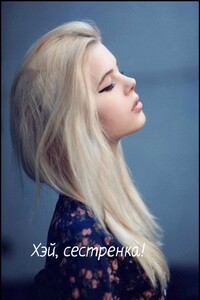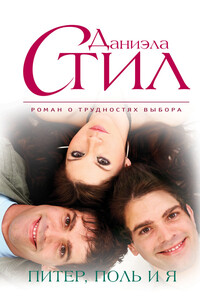В поисках цветущего папоротника | страница 53
«Но расследовать всё-таки надо. И похоронить по-людски, с почестями. Может, сходить в ближайшую деревню, к пану ксёндзу, вдруг что-то слышал или знает?»
Идти не хотелось: жена сердилась, что муж почти не бывает дома, годовалая дочка в лицо папку не узнает, да разве он виноват – работа такая… невесёлая.
При мысли о жене Кострову каждый раз хотелось улыбаться. Маленького роста, полненькая дивчина с зелёными глазами перед войной окончила медучилище в Гродно, а в разросшемся партизанском отряде не хватало женских рук – ухаживать за ранеными. Зимой сорок третьего Алексей ночью постучал в её хату. Лида, ни слова не сказав, надела овчинную шубу, в тряпичную сумку сложила бинты, вату, кусок хлеба с салом и пошла за ним. В этой шубе до пят спала в землянке с ранеными; закрепив на поясе болтающиеся полы, по болотам пряталась, когда немцы облаву на партизан устроили. И сейчас ту крепко истрепавшуюся шубейку хранит, смеётся: «Мне она свадебный наряд заменила».
Капитан согнал с лица улыбку, потёр ладонью лоб – после ранения частенько в самый неподходящий момент начинала болеть голова. Хотел сосредоточиться на предстоящем разговоре, но почему-то упорно возвращался мыслями то в холодную зиму сорок первого – сорок второго, то в май сорок четвертого…
Едва заметная лесная тропинка обрывалась у склона поросшего мелколесьем оврага. Когда-то на дне его бил источник, студёная родниковая вода казалась детворе слаще вожделенных кусочков рафинада. Но примыкающий к ложбине хутор давно заброшен: старики умерли, единственный сын ещё в тридцатых годах перебрался с семьей в Варшаву. Дно оврага заболотилось, и неухоженный родник чуть струился, с трудом пробиваясь сквозь зелёную ряску тины. Только местные жители ещё помнили, как ворчливо бурлил он здесь прежде, радуя душу.
Партизанский отряд Кострова контролировал часть Пущи до этой ложбины. Дальше, на хуторах и в сёлах за ложбиной, хозяйничал отряд Армии Крайовой. Охотников в отрядах хватало, но за хлебом, солью, даже одеждой, которая в лесу изнашивается быстро, приходилось обращаться к жителям ближайших деревень. Днём на подворье хозяйничали немецкие сборщики, ночью – аковцы (так называли солдат Армии Крайовой местные жители), а ранним утром приходили партизаны и забирали последние припрятанные крохи. Там, где аковцы считали себя единственной законной властью, не обходилось без перестрелки с партизанами. Ни хлеба с салом, ни самогона (как воевать без него?) на всех не хватало. Чем ближе подходила линия фронта, тем сильнее активизировались соседи. Появились листовки с портретами Рузвельта и Черчилля. Дескать, они подписали договор со Сталиным, что советские войска остановятся на линии польско-советской границы 1939 года. Партизаны посмеивались: «Размечтались!» В середине мая сорок четвертого аковцы начали наступление на партизанскую зону. Приближающуюся Красную Армию должны были встретить «законные» хозяева «всходних кресов»