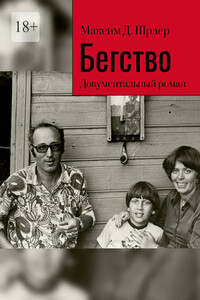Генрих Сапгир. Классик авангарда | страница 47
Книге «Сонеты и катрены» не было суждено увидеть свет. В той форме, в которой Сапгир опубликовал сонеты книгой в Париже, а затем полный расширенный вариант — трижды в России (1989 и 1991; 1999 — в т. 2 Собрания сочинений), «Сонеты на рубашках» — близнец «Московских мифов», фасетчатая хроника жизни художника. Вместе с «Элегиями» «Московские мифы» и «Сонеты на рубашках» — лучшие книги второй трети творчества Сапгира, написанные после стремительного взлета «Голосов», «Молчания» и «Псалмов», но до книг 1980-х и 1990-х.
10. Классические игры на рубеже
В середине 1980-х популярность Генриха Сапгира в России была огромной и никакой, в зависимости от того, как ее оценивать. Случайна ли полярность характеристик Льва Аннинского и Виктора Кривулина? Аннинский, в предисловии к 1-му тому собрания сочинений Сапгира (1999): «До 1975 Сапгира „нет“. Формально. Фактически стихи расходятся — в списках самиздата. С середины 70-х — западная периодика [на самом деле — с середины 1960-х], с конца 70-х — западные отдельные издания. Здесь — по-прежнему „нет“. С середины 80-х — советская периодика [с 1988 года], с конца 80-х — советские отдельные издания, потом российские (поэзию для детей оставим для другого разговора — там Сапгир был прописан „всегда“). Но ощущение такое, что и в современной российской поззии Сапгира — „нет“»[270]. Кривулин, в предисловии к посмертной книге Сапгира «Лето с ангелами» (1999): «Я читаю предисловие к четрехтомному собранию сочинений Генриха Сапгира, и первая же фраза ставит меня в тупик <…>. Маститый критик в стиле раннего В. Б. Шкловского <…> навсегда вселяет [Сапгира] в самиздатовскую „Воронью слободку“ <…> Эффектно сказано и вроде бы точно. Но с точностью до наоборот. Поэзия Сапгира не столько „сквозила сквозь время“, сколько в той или иной степени, напротив, определяла литературный мейнстрим на протяжении последних сорока лет»[271].
При том, что стихи Сапгира не печатали в советских журналах, что их автора не посылали в поездки или выступления от СП (где он не состоял даже по детской секции), в СССР у Сапгира была громкая слава в литературных и артистических кругах Москвы и Питера, а также среди островков неофициальной культуры на периферии (к примеру, Ры Никонова и Сергей Сигей в Ейске). О популярности среди «мейнстримных» советских читателей судить гораздо сложнее. Поздней осенью 1985 года один из пишущих эти строки (М. Д. Ш.), учившийся в то время в Московском университете, совершенно случайно узнал из вывешенного в главном здании МГУ объявления о выступлении Сапгира в «гостиной» Дома ученых МГУ. Сапгира представили как «известного детского писателя», который всю жизнь пишет и взрослые стихи. Генрих читал из «Монологов», «Терцих Генриха Буфарева» и переводов (в том числе из У. Блейка). На выступление Сапгира пришло семь-восемь человек, причем одна из слушательниц, пожилая дама, рассерженно хлопнула стулом и ушла в середине чтения «Терцих Генриха Буфарева». Сапгир читал так страстно и самозабвенно, как будто это было его последнее выступление. Чувствовалась неизбалованность Сапгира «официальными» чтениями взрослых стихов. И еще одно воспоминание о чтении Сапгира накануне «перестройки», зимой 1987 года. Место: одно из первых в Москве кооперативных кафе, на Сретенском бульваре. На отпечатанных к вечеру программках: «Генрих Сапгир — тигр снегов». На этот раз в аудитории было около восьмидесяти человек. Кафе переполнено. Сапгир читает стихи. Публика самая пестрая, казалось бы, несовместимая вне пределов, очерченных выступлением Сапгира, его стихами. Сапгир читает стихи из разных книг. Ни одна из них не была опубликована в СССР, и только одна к тому времени вышла на Западе. Больше всего Сапгир читает из двух книг: «Этюды в манере Огарева и Полонского», которую он сочинил незадолго до этого, после зимнего отпуска на Финском заливе, и «Терцихи Генриха Буфарева», которую он почти закончил к этому времени. Среди присутствующих в аудитории — поэты Геннадий Айги, Евгений Рейн, Игорь Холин. Из «официальных» — поэт Олег Хлебников, служивший редактором поэзии в журнале «Работница». Были на вечере и молодые поэты, впервые услышавшие стихи Сапгира на этом вечере из уст самого автора. И, разумеется, присутствовали друзья Сапгира из тех, которые не принадлежали к литературной среде и потому особенно восхищались чудом, которое разворачивалось у них перед глазами.