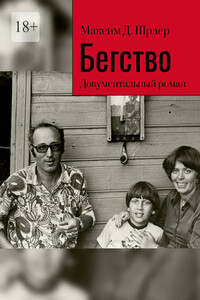Генрих Сапгир. Классик авангарда | страница 38
По наблюдению Михаила Гаспарова, «[некоторые завоевания начала XX в. становятся общим достоянием (напр., дольник или неточная рифма), некоторые — решительно отбрасываются (напр., сложные строфы и твердые формы), некоторые сохраняются как периферийное явление, лабораторный эксперимент (напр., сонет или свободный стих); право поэзии на „лабораторию“ отстаивали, напр., Маяковский и Сельвинский. Чем смелее были эксперименты, тем глубже оставались эти экспериментальные стихи в подполье, и наоборот»[237]. С некоторыми поправками и переменами декораций наблюдение Гаспарова приложимо и к творческой судьбе Сапгира в советском литературном андеграунде.
Понятие андеграунд (транскрипция англ. under-ground), его смысл и значение не раз оказывались в центре споров постсоветского времени. Дебатировалась прежде всего приложимость этого понятия к советской культуре. В начале 1998 года в журнале «Знамя» печатался роман Владимира Маканина «Андерграунд [sic], или Герой нашего времени». В июне того же года журнал провел дискуссию «Андеграунд вчера и сегодня», предоставив слово разным литераторам и критикам, но очевидным образом исключив из нее бывших представителей официального истеблишмента советской поры. В дискуссии принимали участие Михаил Айзенберг, Юрий Арабов, Николай Байтов, Борис Гройс, Иван Жданов, Владимир Паперный, Виктор Санчук, Генрих Сапгир, Ольга Седакова, Семен Файбисович, Алексей Цветков[238].
Вот отрывок из выступления Сапгира в рамках дискуссии. Его ответ озаглавлен «Андеграунд <,> которого не было» (sic): «Андеграунд, подполье. Я никогда в нем не был, и напрасно литературные мифологи считают, что я — оттуда. Это постоянное недоразумение и путаница, столь свойственная России и нашему постсоветскому времени. <…> Была литературная богема: московская, питерская — молодая, с присущим ей вольным житием. Да она и сейчас есть. Из богемы уходили — вверх, в официальные структуры, в эмиграцию и в подполье. <…> Почему мы не были так называемым андеграундом? <…> Потому что в шестидесятые и семидесятые годы <…> мы — молодые художники и литераторы, нельзя не объединить — считали себя и свой кружок центром вселенной и то, что нам открывалось в искусстве, — самым важным для себя и самого искусства. Мы всегда были готовы объявиться, но общество, руководимое и ведомое полуграмотными начальниками или льстиво (вспомните Хрущева и Брежнева!) подыгрывающими им идеологами, на все свежее и искреннее реагировало соответственно: от „не пущать“ до „врага народа“. От „тунеядца“ до „психушки“ <…> За тридцать лет произошел процесс: не андеграунд стал истеблишментом, таково расхожее мнение, а богема родила художников и литераторов, которые — естественно, некоторые — стали классиками. Нормальный порядок вещей»