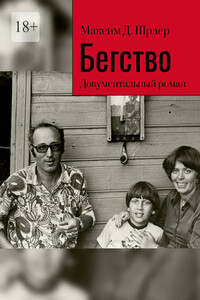Генрих Сапгир. Классик авангарда | страница 36
Угадывается пародия на тексты сразу из нескольких книг и циклов Сапгира, включая «Встречу» (1987) и «Терцихи Генриха Буфарева» (1984, 1987) и «Конец и начало» (1993). К тому же, завуалированно, появляется сапгировская (биографическая) тема барака, барачных поэтов и барачного-барочного искусства (каламбур советского времени: хрущевское баракко). Вспомним прежде всего «Хороны барака» («Терцихи Генриха Буфарева»): «И видно, как все меньше раз за разом / несут на белом к смутным тем березам / дощатый гроб великим переносом // Когда я проезжал и видя корпуса / (забыл упомянуть, что здесь теперь Мокса / другая жизнь, другие трубеса»[223]. Вспомним также более позднюю «Оду бараку» («Конец и начало»): «слава бараку / слово бараку / длинный дощатый / сонный прыщавый / лежит враскоряку / посредине двадцатого века <…>»[224].
В пародийных звукоподражательных стихах Сорокина полуабсурдный нонсенсизм слов «ука рах!» — «тура барах!» может быть расшифрован как «ухо рак!» — «туда барак!».
8. Московские мифы
Генрих Сапгир — один из крупнейших русских поэтов-авангардистов — до 1988 года не мог опубликовать ни одного «взрослого» текста в советских литературно-художественных журналах. Даже такое «широкое» издание как московский ежегодник «День поэзии», был закрыт для Сапгира-поэта[225]. Оставался единственный путь: публикации в советских неподцензурных изданиях и в зарубежных журналах, альманахах, антологиях. На этот путь Сапгир встал в 1959 г., приняв участие в подпольном альманахе «Синтаксис» (выпуск 1) под редакцией Александра Гинзбурга (1936–2002). Власти немедленно оценили эту публикацию не столько как факт литературы («„Только без политики“, — вспоминал Сапгир свой разговор с Гинзбургом <….> Но без политики не получилось»[226]), а прежде всего — идеологическую акцию, направленную против официальной литературы тоталитарно-коммунистического режима. В 1-м номере «Синтаксиса» наряду со стихами Сапгира из книги «Голоса» («Обезьян», «Смерть дезертира», «Радиобред», «Икар», «Голоса») были опубликованы стихи А. Аронова, Б. Ахмадулиной, Н. Глазкова, Б. Окуджавы, И. Харабарова, И. Холина и других поэтов — как печатаемых в официальных изданиях, так и не печатаемых. Вскоре в «Известиях» появилась статья Ю. Иващенко «Бездельники карабкаются на Парнас», задавшая тон будущим пасквилям на неугодных властям литераторов (ср. фельетон «Окололитературный трутень», опубликованный в 1964 году накануне процесса И. Бродского, осужденного за «тунеядство»