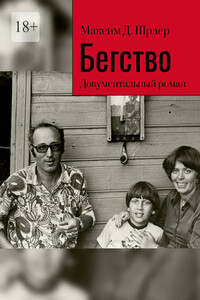Генрих Сапгир. Классик авангарда | страница 35
Памятью этой привязанности — к Лимонову и Катуллу — служит двустишие из книги Сапгира «Московские мифы»:
Лимонов появляется и в других стихах Сапгира, а также в поздней прозе «Бабье лето и несколько мужчин»: «Он вычертил линию своей жизни еще в Харькове, как схему пистолета-пулемета, которая висела на стене его комнаты, которую он снимал в Москве, рядом с портретами Мао Цзедуна и Че Гевары, которые были его юношескими идеалами, которые… <…> Иначе — седеющий, коротко остриженный, в черной косоворотке — почему он не президент? Почему он только писатель? Интересно, убил ли он кого-нибудь или так и промечтал всю жизнь? Убить не запланировал, думаю, а то бы убил»[218].
Интересы Сапгира никогда не ограничивались кругом лианозовцев. Сапгир широко общался с поэтами, входившими в литературные объединения (официальные-полуофициальные-андеграундные) и группы Москвы, Ленинграда и других городов России. С конца 1950-х — начала 1960-х он был связан узами дружбы и давних знакомств с литераторами, входившими в группу Леонида Черткова (особенно с А. Сергеевым), с литераторами теперь уже легендарного объединения при клубе «Факел» (С. Гринберг, А. Лайко), с «сексуальным мистиком» Юрием Мамлеевым, со «смогистами» (В. Алейников, Л. Губанов, Ю. Кублановский), с питерцами В. Кривулиным и О. Григорьевым, с мигрантом из Питера Е. Рейном, с Вен. Ерофеевым и другими литераторами[219]. И, конечно же, в ретроспективе особого внимания достойно то временное единение и общение «официальных» и «неофициальных» литераторов, которым явилось создание и публикация на Западе альманаха «Метрополь» (1979), в акции которого Сапгир принял деятельное участие. Критики и сами бывшие лианозовцы по-разному оценивают место этого содружества и стихов «лианозовского периода» в творческой судьбе Сапгира[220]. Нам представляется, что «Лианозово» стало тем самым юнгианским мифом культуры, который был нужен как его основным героям, так и различным интерпретаторам. Лианозовский миф одновременно компенсировал и затуманивал. Он компенсировал — для Сапгира, Холина и других — невозможность их участия в официально-мейнстримной советской культуре. Он затуманивал и затенял разность талантов, эстетических кредо и формальных поисков даже в пределах внутреннего круга лианозовцев. Хотя сами лианозовцы и их друзья и близкие стоят в рядах первых лианозово-мифотворцев, в ретроспективном взгляде миф о Лианозове существует чуть ли не отдельно от его героев. Некоторые из них еще живы (О. Рабин), а других не стало всего несколько лет назад (Г. Сапгир, В. Некрасов, И. Холин). Герои только начинают сходить со сцены и садиться в «лодку Харона», а о них уже слагаются мифы. Память о мифологических лианозовских временах угадывается, к примеру, в книгах Владимира Сорокина. В романе Сорокина «Голубое сало» (1999) Сапгир и Холин изображены литературными хулиганами, но с несколько большим градусом симпатии, чем остальные персонажи, включая шестидесятников Б. Ахмадулину, А. Вознесенского, Е. Евтушенко и др.