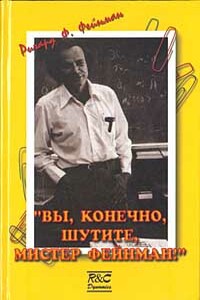История принципов физического эксперимента от античности до XVII века | страница 9
Теория развивается под контролем эксперимента. Ее понятия и законы должны доказывать свою предметную действительность, ее предсказания должны подтверждаться, теоретически рассчитанные системы должны работать и давать предсказываемый эффект. Но именно теория дает нам критерии того, что эксперимент ведется правильно, и, следовательно, сама контролирует эксперимент 16 . Таким образом, проверка самообоснованной теории такая же проблема, как и происхождение теоретического знания из опыта.
Эти противоречивые круги, связанные с двумя функциями эксперимента, точнее сказать, с двумя аспектами единой экспериментальной деятельности, и составляют средоточие исследовательской проблемы, которая лежит в основе нашего историко-научного анализа.
I
V
Если попытка определить эксперимент, исходя из обычного, интуитивного представления об экспериментальной деятельности, приводит, как кажется, к порочному кругу (чтобы познавать, нужно уже знать, чтобы проверять, нужно нечто постулировать), можно попробовать очертить сферу экспериментальной деятельности, проводя демаркационную линию между экспериментом и тем, что, будучи сходным с ним в том или другом отношении, все же не может быть понято как эксперимент.
Возьмем за основу те же два полюса научной деятельности: полюс предметно-практический и полюс понятийно-теоретический. Без особых размышлений мы относим эксперимент к сфере чувственно-предметной практики — это всегда наблюдение или испытание реальных вещей и событий. Однако, это особая практика. Хотя и она имеет дело с орудиями и машинами (инструментальная техника), ее отношение к предмету и ее цель принципиально иные, чем в практике материального производства. Этот род практики непрерывно и целенаправленно переходит в «практику» теоретического мышления, движущегося по своим, логическим законам.
Эксперимент и теоретическое наблюдение, безусловно, развиваются на почве ремесленной, медицинской, навигаторской, сельскохозяйственной и прочей опытности. Они пребывают в том же материале, но теоретическая цель радикальнейшим образом изменяет отношение к этому материалу, преобразует саму форму опыта и иначе направляет наблюдение.
Если, впрочем, в современной науке такое разграничение достаточно очевидно и не требует специального исследования, то при изучении древней науки и техники разделить эти сферы не так-то просто. Здесь возникают особые трудности, встают неожиданные вопросы.
Можно ли, например, сопоставлять друг с другом эмпиризм древности и Нового времени? Почему в одном случае эмпирические наблюдения порождают натурфилософию, основанную на аналогиях, а в другом — явственно группируются в естественнонаучную закономерность? Являются ли экспериментами практические исследования изобретателей и техников античности (Архит, Герон, Витрувий, Папп) и средневековья (например, оптические исследования арабов или опыты Р. Гроссетета и Р. Бэкона)? Научна ли инженерная опытность мастеров и архитекторов эпохи Возрождения, эпохи, для которой столь характерно необузданное «экспериментирование» во всех областях культуры? Экспериментальны ли исследования алхимиков? Когда и в результате чего мастерская художника и изобретателя превращается в лабораторию ученого?