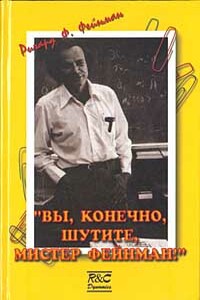История принципов физического эксперимента от античности до XVII века | страница 10
В действительности разграничить практическое испытание и исследовательский эксперимент возможно далеко не всегда. Тем. более что весь этот богатейший материал практической опытностивовлекается в науку и переосмысливается как совокупность экспериментальных исследований и теоретических наблюдений. Но, чтобы это стало возможным, нужна специальная точка зрения, определенная теоретической целью.
Если практическое испытание направлено на достижение цели, для которой исследуемый предмет лишь средство (например, музыкант может варьировать длину или натяжение струн музыкального инструмента, чтобы научиться переходить от одного музыкального лада к другому), то то же самое действие становится экспериментальным, т. е. теоретически нацеленным, когда : в него включается противодействие, возвращающее наше внимание к исходному предмету (в приведенном примере, если цель испытателя — установить закон консонантных отношений вообще). Надо, впрочем, помнить, что при теоретическом отношении к природе целью является не только и не столько та или иная область природы, сколько всеобщие определения природного бытия, такие, например, как «движение», «сила», «пространство-время».
Подобным же образом решается проблема наблюдения. Наблюдение по самой своей природе относится к предмету теоретично. Оно не затрагивает предмет, оставляет его в естественном бытии и лишь стремится фиксировать для себя закономерности этого бытия. Именно поэтому в процессе наблюдения искали в первую очередь опытную основу теоретической науки. Но чем в таком случае отличаются столь точные и детальные астрономические наблюдения вавилонских и египетских писцов от убогих в сравнении с ними астрономических знаний древних греков (только во II в. до н. э. Гиппарх освоил богатство вавилонской астрономии и только во II в. н. э. Птолемей смог их теоретически обработать)? Многоопытный и глубоко практичный наблюдатель обычно делает гораздо более тонкие и надежные предсказания, чем вечно сомневающийся и сугубо непрактичный в своем логическом и методологическом педантизме теоретик.
Это наводит на мысль, что в одном и том же процессе наблюдения теоретик ищет нечто иное, нежели практик. Для него мало заметить повторяемость в чертах предметов или событий и вывести из этого закон (не говоря уже о том, что теоретик прежде всего увидит в этой операции логическую проблему). «Бывалый человек» знает, что при наличии таких-то примет наверняка произойдет такое-то событие; «мудрец» может даже вычислить при помощи заранее составленных таблиц время захода и восхода небесных светил, время затмений и т. д.,— но не это интересует теоретика. Ему важно прежде всего знать, как, почему, по какой причине это происходит. Он заполняет логическую пропасть индуктивного умозаключения, обнаруживая за несколькими единичными событиями один механизм, порождающий эти события и, следовательно объясняющий их, или один-единственный предмет, который события как бы намечает пунктиром. Не столько практически значимая уверенность в повторении событий, лишенных внутренней связи, важна ему здесь, сколько теоретически значимая необходимость события, вытекающая из особенностей предметной конструкции или механизма, скрывающихся за этими единичными событиями. Поиск истинной, предметной связи — вот что делает наблюдение теоретическим. «Небесным узором,— говорил Платон,— надо пользоваться как пособием для изучения подлинного бытия...» 16 . Именно этим поиском «разумного» механизма, скрывающегося за пестрым движением небесных тел (система циклических движений), и объясняется столь серьезное отставание греческой практической астрономии. «...Очевидной целью теоретической астрономии (у греков.— А. А.), — пишет О. Нейгебауер,— стало построение чисто геометрической теории движения планет в целом, а характерные явления в значительной мере потеряли свой специфический интерес, особенно после того, как греческие астрономы развили опыт наблюдений в достаточной степени, чтобы понять, что явления, наблюдаемые возле горизонта (главным образом и занимавшие вавилонян.— А. А.), представляют собой наихудший возможный выбор для получения необходимых эмпирических данных»