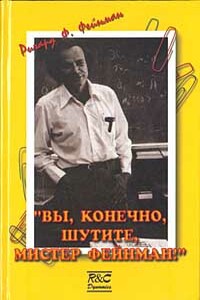История принципов физического эксперимента от античности до XVII века | страница 8
Простота этого определения кажущаяся. И не только потому, что здесь опущено много принципиально важных звеньев. При ближайшем рассмотрении каждый шаг, приведший к этому определению, оказывается проблематичным. Когда отсутствует какое бы то ни было теоретическое понятие (знание), невозможно не только правильно интерпретировать результаты исследовательского эксперимента, невозможно вообще его поставить, поскольку неизвестно, какие предметы надо отбирать, как надо их преобразовывать, в какие условия ставить. Теоретическое знание уже должно быть, следовательно, предпослано научному эксперименту, чтобы в нем можно было такое знание получить. А это значит, что невозможен простой переход от предмета к понятию, если предмету так или иначе не предпослано понятие.
Наоборот, в проверочном эксперименте мы хотим предметно обосновать (доказать показом) то, что уже обосновано теоретически, доказано в рамках теоретической системы. Эта проверка, стало быть, ставит под вопрос не только то частное утверждение (предсказание) теории, которое непосредственно испытывается в эксперименте, но и как определенную форму обоснования знания — всю теорию в целом 13 . Если доказанное в теории утверждение оказывается предметно недействительным, затрагиваются сами основы теории, с .которыми это утверждение логически связано.
О чем в самом деле свидетельствует отрицательный результат эксперимента? При условии, что испытуемое утверждение выведено из теории правильно (нет логической ошибки), что интерпретация результатов также проведена правильно (и сама «логика интерпретации» не ставится под сомнение), при условии далее, что теория, описывающая средства наблюдения, измерения, вообще физику прибора, не ставится под вопрос в том же эксперименте, а берется в качестве надежно работающей, отрицательный результат эксперимента может свидетельствовать, в конечном счете, о внутренней ограниченности теории в целом и дает повод к тому, чтобы искать то содержательное противоречие, в котором выражается эта ограниченность. Так, Эйнштейн в своей классической статье «К электродинамике движущихся тел» 14 сразу же указывает радикальное противоречие («асимметрию»), к которому приводит электродинамика в применении к движущимся телам. Такая постановка вопроса радикальнее ссылок на эксперименты типа Максвелловских.
Но, как только что было замечено, именно в теории мы черпаем сам замысел эксперимента, схему его исполнения, критерии правильности и средства теоретической интерпретации его результатов. Как же может эксперимент обосновывать теорию, если теория является основанием эксперимента?