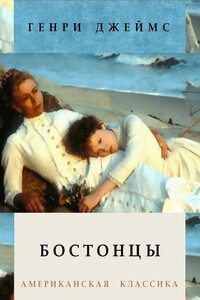Небрежная любовь | страница 11
Он помнил: их трубач, конечно, не был Кэлвертом, но и ему, когда они в те дни играли в парке «О мой папа», удавалось иной раз дополнить красиво льющуюся мелодию всплесками благородной меланхолии, совершенно необходимыми всхлипами сладкой грусти, так что все это, выливаясь через многочисленные динамики, развешанные по парку, струилось над ним в приятной тоске и напоминало какую-то необременительную дешевую поп-мессу. Эту «мессу» он всегда играл с кривой усмешкой, с желчной иронией по отношению к себе, ибо ощущал в ней, в том, как звучала в парке невинно легкая мелодия, все тот же парадоксальный круговорот жизни, в котором жестокое, страшное, так и не раскрытое преступление могло, оказывается, отозваться в душе всего лишь «светлой печалью», а пережитый некогда ужас — холодным любопытствующим удивлением.
Он пытался оживить, хотя бы слегка расшевелить в уголках памяти ощущение того детского ужаса; он отыскивал и выбирал из холодной золы прошлого едва тлеющие искорки тогдашних своих сомнений, страхов, надежд и раздувал их до тех пор, пока они, запылав давним огнем, не опаляли его сердца. Только так он мог вернуться в то время, когда мать, поссорившись с дядей, выехала из старого дедовского дома возле церкви, и они вдруг очутились в непонятном, фантастически запутанном мире большой стройки. Возводилась первая ГЭС на Каме, строить ее понаехало много всякого стороннего люда — в основном тех, кто с войны все никак не мог где-то осесть, укрепиться, зажить по-человечески, всем хотелось заработать, взять свое, вырвать у жизни кровью завоеванное. Одинокие селились в круглых деревянных юртах, побеленных известью, семейные — в бараках, ряды которых все росли и росли, засыпные дощатые дома на две-три семьи считались дворцами, а шлакоблочные двухэтажки с канализацией и водой — просто роскошью, но даже и в них все квартиры были коммунальными, и он нередко слышал самую злобную и жестокую ругань из-за какой-нибудь вонючей тряпки, которую одна соседка взяла у другой, из-за какого-нибудь лишнего стула, поставленного на кухне. Во дворе же над ним часто насмехались, потому что он носил шарф, много читал и не сквернословил. Приходя домой и ложась спать, он порой укрывался с головой одеялом и чуть ли не плакал от сознания своей беззащитности, от одиночества и, главное, от ужаса перед смертью. Иногда он пробовал приободриться, говорил себе, что он ни в чем не виноват, никому не мешает и никому не делает вреда. Но тут же какой-то мрачный голос напоминал: так отца-то ведь убили... И он уже не знал, как спастись в этом злобном мире.