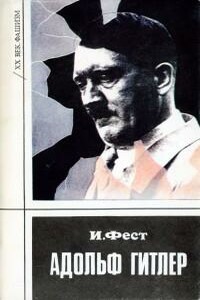Москва – Берлин: история по памяти | страница 79
В начале 1946 года, впервые оказавшись в Берлине после войны, я сразу поехал в Штеглиц. Конечно, Кник первым делом спросил, как мне удалось выжить и что с моей семьей. Выслушав мой рассказ, надо сказать, весьма немногословный, он не пожелал сам говорить о том, что нацисты сделали с ним и с его близкими. Теперь он был директором гимназии.
Кник сказал, что почти ежедневно к нему приходят гости, в основном в американской или английской форме. Это его бывшие еврейские ученики. Все они говорят слова благодарности. За что? Я могу только объяснить, за что сам был ему благодарен. В те годы Райнхольд Кник был единственным человеком, который казался воплощением немецкого идеализма, знакомого мне только по книгам; начиная с 1933 года все труднее становилось верить, что этот идеализм в принципе может существовать.
Впрочем, Кник был пусть и не совсем обычным, но все же довольно типичным представителем своего профессионального сословия. Почти всех учителей, у которых мне довелось учиться, без труда можно было разделить на две большие группы. На нацистов и не нацистов? Ничего подобного — разграничительную линию следовало искать в другой области.
Представители первой группы были аккуратными чиновниками, хорошо осознающими свой долг — не больше, но и не меньше. Не важно, преподавали ли они латынь или математику, немецкий или историю. Как правило, они приходили на урок, хорошо подготовившись, и выполняли предписанный минимум. Если они не доставляли нам неприятностей и не задавали слишком много, мы тоже вели себя корректно. Относились мы друг к другу с безразличием.
Учителя другого типа тоже были не бог весть какими увлеченными педагогами. Но в них угадывалась сильная страсть. В юности они мечтали о совершенно других профессиях: хотели быть учеными или писателями, музыкантами или художниками. Но мечта не осуществилась, не важно, по какой причине. И вот в конце концов их жизненные метания завершились школой, или же они в ней случайно застряли, да так и не выбрались. Но это не мешало им по-прежнему любить музыку или литературу, мечтать о науке или искусстве, восхищаться то французским остроумием, то английским менталитетом. И эта любовь, эта мечта, это восхищение помогали им, обреченным ежедневно возиться с детьми и подростками, находить силы для преодоления душевной горечи и отчаяния.
Разумеется, они не всегда тщательно готовились к занятиям и без зазрения совести то и дело отклонялись от школьной программы. Мы были им за это благодарны. Ибо то, что они между делом рассказывали на уроках, никогда не было скучно и пробуждало фантазию. А иногда — даже приводило нас в полный восторг.