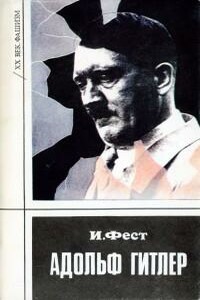Москва – Берлин: история по памяти | страница 80
Фриц Штайнек был одним из таких энтузиастов. Для него не существовало ничего, кроме музыки. Не важно, говорил ли он про ораторию Гайдна, песню Шуберта или оперу Вагнера — его рассказ всегда отличался необычайной энергией и страстью. Ему было просто необходимо — по крайней мере, так нам казалось — убедить нас в том, что тот или иной пассаж Моцарта или Бетховена великолепен и чтобы мы поняли почему. Штайнек с теплотой и благодарностью относился к каждому, кто интересовался музыкой всерьез, вне зависимости от того, какой этот ученик был национальности. Не помню, чтобы на его уроках звучали нацистские песни. <…>
Как-то раз ученики, которые умели играть на инструментах, должны были продемонстрировать, чего они достигли, а один из них — кстати, еврей, — в отличие от прочих, исполнявших классические вещи, начал бренчать какой-то пошлый шлягер, и мы испугались, что Штайнек его строго осадит. Но случившееся не возмутило его, а только огорчило. Он тихо сказал: «Это плохая музыка. Но ведь и плохую музыку можно сыграть прилично». Он попросил дать ему ноты, брезгливо, кончиками пальцев, взял их и сел к пианино: он не считал ниже своего достоинства сыграть нам шлягер. Это был блестящий педагог и прекрасный человек.
Для полноты картины добавлю то, что я узнал только теперь, в июле 1982 года: учитель музыки Штайнек долгие годы состоял в НСДАП и был довольно активным ее членом. Узнал я о нем и кое-что еще. В гимназии имени Фихте было принято ежегодно на прощание выпускникам петь песню «Расставанья час», исполнял ее школьный хор. Песня была написана в 1848 году на слова Гофмана фон Фаллерслебена, и тут вдруг обнаружилась деталь, нанесшая этому произведению фатальный урон, — оказалось, что эту песню сочинил еврей, Феликс Мендельсон-Бартольди. Штайнек нашел выход из этой щекотливой ситуации: недолго думая, он написал на старый текст новую мелодию. Ведь он годами старался внушить нам, что самое прекрасное на свете — это музыка, и, тем не менее, ничто не помешало ему «очистить» эту песню от еврейских корней, так сказать ее «аризировать». Почему он решился на это? Что его заставило? Точно не неведение и не любовь к музыке, скорее уж честолюбие и тщеславие. Или он хотел понравиться директору, этому «золотому фазану» Хайнигеру?
Упомянутый Хайнигер, единственный среди всех учителей, выказывал себя на уроках усердным и даже фанатичным национал-социалистом. Но мы бы ни за что не перепутали его ни с кем из рядовых нацистов. В манерах этого полнеющего лысоватого человека лет пятидесяти не было ничего бравого, военного. Ему явно больше подошла бы вальяжность генерала. Между делом он давал понять, что знает о новом государстве несравненно больше, чем можно было узнать из газет. Что он не какой-нибудь заурядный нацист, а человек, принадлежащий к элите посвященных, — вот каким мы должны были его воспринимать.