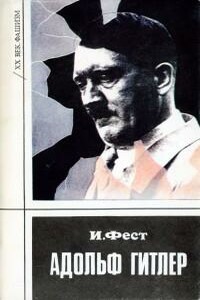Москва – Берлин: история по памяти | страница 76
Ожидание началось заново. Мы были ни живы ни мертвы в самом прямом смысле слова. Из издательства звонили еще несколько раз, затем звонки прекратились. Но каждый раз, когда раздавалась телефонная трель, я вздрагивала от испуга. А самое мучение начиналось ночью. Хайнц бегал по комнате, смоля сигарету за сигаретой, а я прислушивалась к каждому шороху в коридоре. Тяжелые шаги обыкновенно раздавались после полуночи. Из комнаты напротив забрали болгарина, из комнаты под нами — поляка. Когда днем я шла по коридорам «Люкса», я украдкой разглядывала двери — не появилась ли еще где-нибудь бумажка с печатью. После ареста дверь опечатывали, если не оставалось никого из родственников. Но вот, кажется, опять забрезжило чудо. Снова зазвонил телефон, и снова я вздрогнула. На этот раз Кребс, глава издательства «Иностранный рабочий», хотел заказать Хайнцу статью для первомайского номера стенгазеты. Что это значило? Издевка? Или последствие димитровского предложения? Может быть, Кребсу пришло в голову, что затравленный Нойман еще может опять войти в милость? Означало ли это, что нам снова можно надеяться? Хайнц написал статью и отослал ее в издательство. Но в стенгазете она не появилась. За три дня до Первомая, ночью с 26 на 27 апреля 1937 года, шаги остановились перед нашей дверью. И как раз этой ночью от нервного истощения мы провалились в глубокий сон без сновидений. Из далекой дали донесся до меня стук в дверь. Я вскочила и открыла. Три сотрудника НКВД и комендант «Люкса» ворвались в комнату.
— Нойман, встать! Вы арестованы!
Мешок на голове
Из книги «Мои школьные годы в Третьем рейхе»
Марсель Райх-Раницки
Годы в долг
Перевод Ирины Алексеевой
«Мой сын еврей и поляк. Как с ним будут обращаться в вашей школе?» — спросила моя мать директора гимназии имени Фихте, расположенной в районе Берлин-Вильмерсдорф. Шел 1935 год. Впрочем, она немного преувеличила. Я родился в польском городе (совсем рядом с ним до конца Первой мировой войны проходила граница с Германской империей), но когда я ребенком переехал в Берлин, то считал себя, конечно, евреем и ни в коем случае не поляком, скорее уж берлинцем. Правда, гражданство у меня было польское, так что в Германии я был чужаком вдвойне.
Между тем моя мать добилась своим провокационным вопросом, чего хотела: директор в самой вежливой форме заверил ее, что эти опасения его удивляют. Во всякой немецкой, всякой прусской школе справедливость является верховным принципом. Чтобы ученик за свое происхождение подвергался дискриминации или, хуже того, гонениям — в гимназии имени Фихте такое немыслимо. У школы есть свои традиции.