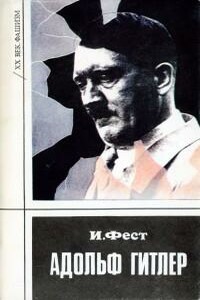Москва – Берлин: история по памяти | страница 73
— Я тебе обещаю, если меня заставят выступать на открытом процессе перед судом, я найду силы крикнуть: «Долой Сталина!» Ничто и никто не помешает этому последнему протесту!
Он помолчал мгновение и добавил:
— Что только эти гады могут сделать с людьми?!
До этого выкрика я не знала, что Хайнц думает о показательных процессах. После ночного признания он впервые заговорил о самоубийстве. И любовь к нему заставляла меня изобретать фантастические способы нашего спасения. Я заклинала его не сводить счеты с жизнью, пока остается хоть малейшая надежда на бегство.
В январе 1937 года на Красной площади в Москве проходила демонстрация. Рабочих отправляли туда прямиком с заводов. Никто не мог увильнуть. Сотрудники издательства «Иностранный рабочий», в котором мы числились, тоже должны были все как один явиться на демонстрацию. И вот в эти ледяные дни толклась на Красной площади многолюдная толпа. Ни одного громкого возгласа. Люди молча стояли под снегом, и контраст между этим молчанием и лозунгами на транспарантах, которые они держали, вгонял в трепет. «Убить как бешеных собак!» «Смерть фашистским предателям!» На одном из плакатов был нарисован кулак, обмотанный колючей проволокой, и написаны слова: «Да здравствует НКВД, бронированный кулак революции!» Второй кровавый показательный процесс — против Пятакова, Серебрякова, Радека и еще четырнадцати старых большевиков — шел полным ходом. Давно ли Радек и Пятаков со страниц «Правды» и «Известий» сами требовали крови тех, кого обвиняли на первом показательном процессе? И полугода не прошло. Неужели Радек действительно писал: «Уничтожить эту сволочь»? Неужели эти речи принадлежали Пятакову: «Не хватает слов, чтобы полностью выразить наше возмущение и отвращение. Это скоты, потерявшие человеческий облик. Их нужно уничтожить, уничтожить, как падаль, которая отравляет чистый, свежий воздух советской страны»? Так они писали, надеясь спасти собственную шкуру. А теперь сами сидели на скамье подсудимых, сознавались в преступлениях, которых никогда не совершали, и безмолвная толпа с транспарантами требовала уже их крови. Тринадцать человек приговорили к смертной казни, оставшихся четырех, включая Карла Радека, — к длительным тюремным срокам.
Когда, промерзнув до костей, мы вернулись в «Люкс», администратор (а лучше сказать, работающий под видом администратора сотрудник спецслужб) протянул нам письмо. На конверте стоял парижский штемпель, но, когда мы его вскрыли, стало ясно, что написано письмо в Испании. Его послал наш друг Перси. Текст был на редкость бессмысленный, сплошное дурачество: Перси записал на листке английский текст какого-то шлягера и уверял нас, что сейчас эту джазовую песенку поют повсюду и нам наверняка будет интересно изучить ее получше. Так мы и сделали — и подумали, что Перси на Гражданской войне лишился рассудка. В песенке рифмовались «любовь» и «кровь», а еще имелась бессмысленная фраза, что-то вроде: «Железо горячее возьми, к бумаге ты его прижми…» Еще с двадцатых годов мы, конечно, привыкли к дурацким песенкам, но никак не могли взять в толк, с чего вдруг Перси решил поделиться с нами этой чушью. В растерянности мы сидели над письмом, как вдруг мне пришла в голову чудна́я мысль. Промежутки между строчками были несоразмерно большие. Едва я обратила на это внимание, как меня осенило. В тот же миг Хайнц схватился за голову.