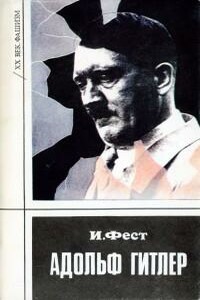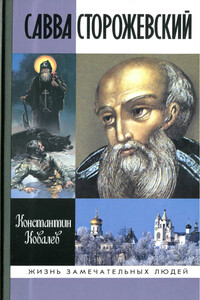Москва – Берлин: история по памяти | страница 66
<…>
То, что веселые забавы в Рублеве на самом деле были плясками на вулкане, мы поняли весьма скоро. Делегаты разных национальностей не общались без надобности. По возможности, люди старались друг от друга спрятаться. А еще внимательно смотрели по сторонам, и по подобострастию, с которым один человек приветствовал другого и разговаривал с ним, было совершенно ясно, кто действительно в милости, а кто уже подстреленная птица. Само собой разумеется, в столовой мы сидели за столиком одни. Никто не отваживался к нам подсесть. Люди ограничивались коротким прохладным кивком и избегали с нами общаться. Лишь немногие, как великодушный француз Кашен, нарушали общий бойкот. Контраст между этим недоверием, осторожничаньем; заискиванием — и солнечной летней погодой, сельской атмосферой и нарочито радостным отпускным настроением действовал нам на нервы гораздо больше, нежели одиночество в большой Москве. Там мы могли закрыться в своей комнате. Внешний мир к нам не вторгался, и нам не приходилось ему непрерывно противостоять. Неудивительно, что в Рублеве напряжение день ото дня росло, и неудивительно, что наше пребывание там завершилось совершенно неожиданно.
Однажды в Рублево заехал старый русский знакомый Хайнца. Оба обрадовались случайной встрече, и русский товарищ пригласил нас после обеда зайти в его летний домик, находившийся поблизости. Разумеется, водки выпили немало, и, когда хозяин вечером отвез нас назад в Рублево, они с Хайнцом оба были пьяны. Мы вылезли из машины перед воротами пансионата: Перед нами расстилались зеленые насаждения, редкие клумбы, чистые дорожки парка. Многочисленные делегаты и работники Коминтерна в этот непоздний час еще были на улице, сидели на скамейках или расхаживали туда-сюда маленькими группками, погрузившись в беседу. И тут я увидела, как исказилось лицо Хайнца. От водки его шатало. Тишину летнего вечера разорвало проклятие — одно, другое, третье… Он орал срывающимся голосом, орал по-немецки и по-русски. Все, что скопилось у него на душе за это время, вырвалось наружу. Алкоголь смел все запоры. Он обрушился на бюрократов и контрольную комиссию, на всю систему и на лицемерие функционеров. Я в ужасе застыла, ведь кричал он так громко, что товарищи из Коминтерна в саду не могли не слышать его брань. Унять его мне не удавалось, единственное, что я могла, — это как можно быстрее утащить его в нашу комнату, где он провалился в пьяный сон. Когда я разбудила его на следующее утро и, все еще находясь под впечатлением от вчерашнего происшествия, сказала, что мы должны как можно скорее покинуть Рублево, он посмотрел на меня удивленно. Хайнц ничего не помнил. Когда я объяснила ему, что он натворил, он согласился. Здесь нам нельзя было оставаться ни дня. Мы быстро собрали вещи и уехали. Через парк мы шли, как через строй под шпицрутенами. Куда ни глянь — всюду возмущенные лица и осуждающие взгляды. Убежденные в своей правоте люди не могли упустить такой лакомый кусок. Попутный грузовик довез нас до Москвы.