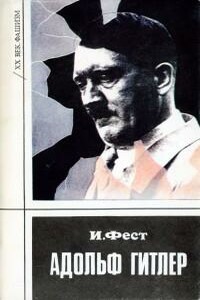Москва – Берлин: история по памяти | страница 38
Мои берлинские товарищи в универмаге «Тица», равно как и в районном комитете партии, пришли в неистовство, когда увидели знамя во всем великолепии. Передачу знамени членам партячейки универмага обставили как торжественную церемонию, чтобы подчеркнуть политическую значимость этого события. Наш хор разучил революционную песню на несколько голосов, я вызубрила речь, и мы собрали деньги на древко для знамени. Древко покупали в универмаге «Тица» и выбрали самое лучшее — с увесистым медным грифом и ярко сверкающим медным наконечником. Сцену в зале украсили вечнозелеными растениями, а над ней наискось растянули знамя во всю ширину. Около пятисот человек, в основном сотрудники-коммунисты, явились на собрание; вел его тот самый Эрнст Торглер[20], председатель коммунистической фракции в Рейхстаге, которому в 1933 году предстояло сыграть существенную роль в деле о поджоге Рейхстага. Это событие глубоко впечаталось в мою память, быть может, потому, что мне в первый раз приходилось выступать перед столькими слушателями, но, вероятно, еще и из-за особой атмосферы, пропитанной театральностью и сентиментальностью. После короткого выступления Торглера на сцену вышла я; сердце колотилось как сумасшедшее, и, запинаясь, я начала отчет о своей поездке. Волноваться меня заставлял не только страх публичного выступления. Еще раньше, когда я впервые рассказывала о своем путешествии коллегам в «Инпрекоре», я поняла, что на этот раз мне вряд ли удастся выступить так же эмоционально, как обычно. Казалось, четыре недели пребывания в незнакомой стране, к тому же — в «нашем» Советском Союзе, станут для меня неисчерпаемой темой. Но что-то не складывалось, проскальзывали фальшивые нотки, я удерживалась от того, чтобы прямо поведать обо всем плохом, что я повидала за время поездки. Против собственной воли я начала приукрашивать и сыпать пустыми фразами. В свое оправдание могу сказать, что чувствовала я себя при этом скверно. Но дать этому неловкому чувству правильное название я никак не могла. Я лгала не сознательно, просто инстинктивно ощущала, что чего-то недоговариваю. Моя теперешняя речь была такой же. Должно быть, и на слушателей она произвела странное впечатление, не случайно, когда Хайнц, явившись с опозданием, подошел к стоявшему в глубине зала Торглеру, тот шепнул ему: «Смотри, это говорит простая русская коммунистка, которая привезла из России знамя…» Может быть, не только мое жалкое заикание навело Торглера на мысль, что немецкий для меня — не родной; виной тому мог стать и мой необычный наряд. А одета я была, в соответствии с партийной модой, в коричневую кожаную куртку. Подобный костюм мы считали особенно большевистским, хотя никто в Советской России так не одевался.