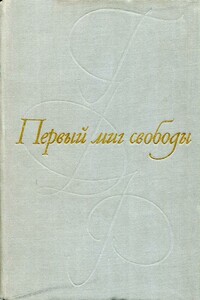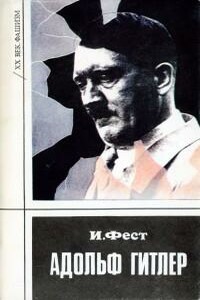Москва – Берлин: история по памяти | страница 36
На польско-советской границе в Негорелом советские солдаты в зеленых фуражках обходились со всеми путешественниками, в том числе со мной, как с опасными врагами, долго проверяли у нас паспорта и перерывали чемоданы. Счастья в моей душе поубавилось, и ничто уже меня не радовало весь долгий, однообразный путь до Москвы. Хайнца и Германа Реммеле[18], которые встречали меня на вокзале, я приветствовала радостно, почти как спасителей. Оба уже пробыли какое-то время в Москве по делам Коминтерна. Первым делом мы проехались по городу, чтобы я могла получить впечатление обо всех достопримечательностях. Но я в изумлении взирала на улицы, которые напоминали копошащийся муравейник — потоки людей непрерывно струились во всех направлениях. И все эти люди походили друг на друга: убогая, серая, плохо сшитая одежда и озабоченные лица. Мне с трудом удалось скрыть замешательство и подавленность, ведь ни Хайнц, ни Реммеле не поняли бы моего разочарования. Для них, знавших Советскую Россию уже десять лет, все это само собой разумелось. В «Метрополе», самом роскошном московском отеле того времени, еще сохранившем дряхлое, изрядно запыленное великолепие царской эпохи, для меня был забронирован номер. Некто вроде администратора в полувоенной форме сунул мне в руку две дюжины листочков — талоны на питание, а официант в белом переднике, свисавшем почти до мысков, подал меню, в котором я ни слова не могла разобрать. Зато мне объяснили, что на завтрак уже можно заказывать икру — это произвело на меня впечатление.
На следующий вечер было назначено собрание в клубе Мосторга, где мне предстояло познакомиться с коллективом и рассказать про Берлин. По телефону Хайнц обсудил все с ответственным работником местного профсоюза, и вопрос, кто будет переводить мою речь, вызвал некоторое замешательство. Товарищ Рогалла, московский секретарь Эрнста Тельмана[19], взял эту обязанность на себя. Я предложила ему зайти в «Метрополь», чтобы ознакомиться с моим докладом, но Рогалла посчитал это совершенно ненужным и, выговаривая слова с сильным гамбургским акцентом, заявил: совершенно безразлично, что я буду рассказывать, он все равно будет толкать делегатам одну и ту же речь…
В помещении клуба с ленинским уголком и множеством красных транспарантов на стенах не было ни души, когда мы, по моему настоянию, наконец-то туда прибыли, хотя и опоздав на двадцать минут. Произошло именно так, как предсказывал Рогалла: собрание началось на полтора часа позже. Большинство слушателей составляли женщины и девушки в красных и разноцветных платочках, со смертной скукой на лицах, словно они исполняли весьма неприятную обязанность. Суетились и мололи языком разве что организаторы, которые уселись вместе с нами за длинный стол на сцене. Некоторые из них постоянно обращались ко мне. Вероятно, на немецком, но я не понимала ни слова. Наконец началась долгая церемония, во время которой все много и долго хлопали: собрание объявили открытым и стали выбирать президиум и почетный президиум. Мероприятие продлилось несколько часов, под конец одна из работниц обязалась от имени коллектива изготовить знамя для ячейки «Тица» и собственноручно его вышить. Подарок должен был быть готов к тому времени, когда я поеду обратно в Германию. На прощание мы условились, что я осмотрю универмаг, детские сады и новые фабрики. На другой день мне дали гида, который действительно хорошо говорил по-немецки; с ним я прошлась по универмагу, внимательно оглядываясь по сторонам, чтобы рассказать моим товарищам из «Тица» все как можно точнее. Меня поразило, если не сказать ужаснуло, что в огромном здании, кроме очень искусно расписанных деревянных поделок и красочно расшитых льняных скатертей, продавались только туалетные принадлежности, например, духи с назойливым запахом, а в других отделах царило чудовищное запустение. С особой гордостью мне продемонстрировали «современные» настольные лампы — основание такой лампы представляло собой столбик, на который опирался трубящий в горн пионер из раскрашенного гипса. Маленький абажур над его головой весь состоял из пышных рюшек. При всем желании у меня не повернулся язык похвалить эту «красоту». Зато в детском саду, где все малыши были одеты в красные фланелевые платьица, несмотря на их наголо остриженные головки, я наконец-то смогла воодушевиться и отбросить все дурные впечатления. Меня засыпали внушительными цифрами, касавшимися социальных благ для матерей и детей, и сердце мое вновь забилось веселее. На заводах, куда меня возили на автомобиле, тоже нашлось, чему подивиться, и я судорожно старалась не замечать мусора и беспорядка во дворах, где ржавели под дождем наполовину ушедшие в землю детали станков и даже целая динамо-машина. Но когда я заметила, как на одной из центральных улиц перед витриной толпятся оборванные ребятишки, я больше не могла сдерживаться и спросила своего гида — неужели на всех детей еды не хватает? Мне был дан ответ, который одним махом развеял все мои сомнения и возродил прежнюю веру в идеальную Советскую Россию. Ибо мне поведали, что в СССР сейчас, конечно, кое-чего не хватает, так как приходится экспортировать зерно, чтобы ввозить технику, которая жизненно необходима для развития собственной социалистической промышленности. Однако, как усердно объяснял мне переводчик, если пятилетний план будет выполнен, то есть самое позднее через два года, Советская Россия будет несметно богата. Он энергично заверил меня, что советский народ охотно мирится с временным дефицитом, потому что знает, какое светлое будущее его ждет. Эти объяснения подействовали как заклинание; мне показалось, что даже солнце стало светить совсем иначе.