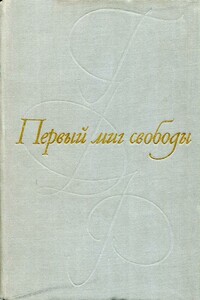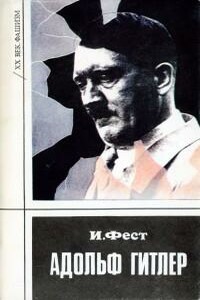Москва – Берлин: история по памяти | страница 35
Прежде я встречала советских коммунистов, не считая Зинаиды и Ломинадзе, только на приемах в посольстве СССР: именно там я познакомилась с послом Крестинским и его женой, с руководителем Отдела международной связи Коминтерна Абрамовым-Мировым и секретарем посольства Марселем Розенбергом[14] — этими людьми я искренне восхищалась. Естественно, я считала, что все советские русские похожи на этих товарищей, которые были убежденными приверженцами западных ценностей. На приемах в советском посольстве на Унтер-ден-Линден в те годы царили братские отношения между гостями из КПГ[15] и всеми работниками посольства, от швейцара до посла. Конечно, я могла только догадываться, какие тайные нити связывают, к примеру, Лео Флига[16] и этот уголок советской страны на немецкой земле: будучи высокопоставленным функционером секретного аппарата КПГ, он встречался здесь с представителями советской разведки, и большинство работников являлись его агентами. Тогда в посольстве еще бывали советские эмиссары Коминтерна, и там же распределялись денежные переводы, регулярно приходившие для КПГ из Советской России. Таинственной и доверительной была уже сама атмосфера на приемах, которые советское посольство устраивало для представителей КПГ, чей внешний вид производил странное впечатление. Мы, немецкие коммунисты, для визитов в посольство выбирали не красивые наряды, а, наоборот, пролетарскую одежду. Женщины демонстративно надевали красные блузки, синие юбки в складку и туфли без каблуков. Мужчины приходили в будничных костюмах, словно только что с работы. Не без презрения мы отмечали «буржуазные замашки» жен советских дипломатов, которые появлялись в элегантных вечерних туалетах. Но по ходу вечера мы очень быстро забывали о подобных расхождениях, ели, пили и танцевали в свое удовольствие и чувствовали себя как дома в посольстве нашей пролетарской Родины.
Вопреки буржуазной критике, более чем убедительным свидетельствам Панаита Истрати[17] и воинственным нападкам членов некоммунистического рабочего движения, для меня Советская Россия оставалась образцом лучшего мира. И хотя моя вера в безупречность коминтерновской политики к 1931 году была уже не столь истова, меня до крайности возмущало даже простое упоминание о негативных сторонах советского режима. Каждый критик этого режима становился в моих глазах злонамеренным контрреволюционером и лжецом. В ту пору многие утверждали, будто коллективизация в советском сельском хозяйстве привела к чудовищному голоду — я же считала это самой злостной из выдумок. Конечно, иногда, рассматривая фотоснимки в журнале Вилли Мюнценберга «Советская Россия в картинках», я испытывала что-то вроде неловкости, так как лица молодых советских людей, сидевших на тракторах или стоявших у верстаков, ничуть не соответствовали моему представлению о социалистическом идеале человека. Вообще эти снимки производили тягостное впечатление, словно бы в жизни советских людей не было никакой радости. Но впечатление это могло быть и ложным, ведь во всем прочем, что доходило до нас из этой страны, бурлило счастье новой жизни: в революционных песнях, в стихотворениях Маяковского, в гастрольных спектаклях театра Таирова и берлинских постановках «Ревизора» Мейерхольда, равно как и в советских фильмах «Потемкин» или «Десять дней, которые потрясли мир». Особенно меня впечатлил и убедил в величии советской культуры сборник современных русских рассказов, вышедший в издательстве «Малик». Я так страстно желала видеть в стране Октябрьской революции только хорошее, что переносила на нее даже свою любовь к Толстому, Гончарову и Тургеневу. Теперь мне предстояло увидеть эту страну собственными глазами, и от радости я была словно в лихорадке.