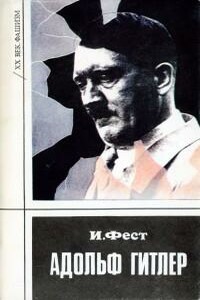Москва – Берлин: история по памяти | страница 100
Два последующих года были счастливейшими за все время учебы в школе. Наконец-то я была свободна. Домашние задания я делала в школе, пока остальные тренировались и маршировали; в послеобеденное время я читала, писала длиннющие многостраничные стихи и смотрела фильмы киностудии УФА. И главное: я получила алиби, мне было просто необходимо заботиться о своем здоровье больше, чем о чем-либо другом. Если прежде я была дичком и непослушным ребенком, то теперь благодарила судьбу за такой подарок и стала почти ласковой, что показалось моим близким серьезным признаком болезни.
Суровая действительность вырвала меня из сладкой мечты: шло лето 1942 года, нацисты жестоко отомстили за убийство Гейдриха[68], всяческая связь с Прагой оборвалась, Богемия потонула в крови. Тогда же и мы испытали на себе этот террор. Внезапно маму вызвали в управление по делам «рас и расовой гигиены». Там совершенно фанатичная нацистка, врач — ее звали госпожа Бар, некоторые имена хорошо впечатываются в память, — рассказала ей, что наш, доселе неизвестный дедушка по линии отца был венгерским евреем. Она обвинила маму в «отсутствии расового чутья при выборе супруга», возложила на нее ответственность за самоубийство отца, а также за «декадентскую наследственность» ее детей, которая портит их будущее; при таком положении вещей о нашей учебе в университете не могло быть и речи. <…>
В феврале 1944-го я окончила школу, в условиях войны спешно сдав выпускные экзамены. Вместо того чтобы пойти в Имперскую службу труда[69], я устроилась на работу в отдел печати при Национал-социалистической народной благотворительности, где в мои обязанности входило сообщать об эвакуации детей, появлении новых детских садов и тому подобных вещах. Через неделю я прочитала в газете объявление, написанное начальницей больницы: «Требуется учитель немецкого языка для обучения иностранных сотрудников». Я предложила свои услуги.
Доктор Й. был украинцем, в Германии он находился в ранге майора. Наши занятия немецким проходили в инфекционном отделении больницы, которым он заведовал. Я не боялась скарлатины и дифтерии, от этих болезней у меня уже был иммунитет. От чего у меня не было защиты, так это от любви. У нас был короткий и бурный роман, который вскоре омрачился вспышками ревности ć моей стороны, когда доктор Й., явно что-то от меня скрывая, стал половину дня и все вечера проводить в Праге. К своему стыду, я вынуждена признать, что была просто счастлива, когда в начале сентября 1944 года доктор Й., а затем и я, были арестованы гестапо, и на многочасовых допросах я узнала, что пражские визиты моего друга объяснялись не наличием соперницы, а «исключительно» политическими связями. Какого рода были эти связи, я так и не смогла выяснить за все время своего заключения, которое длилось пять с половиной месяцев. Зато мне стало очевидным другое: раньше я лишь сомневалась, а если и сопротивлялась, то слишком пассивно, теперь же, под воздействием грубых окриков Вихтля, известного кровопийцы, начальника тюрьмы на Лауфергассе в Рейхенберге, я наконец-то превратилась в противника режима. Но в таких обстоятельствах это было уже несложно, а вот свой шанс прозреть раньше я упустила. Мне не оставалось — и до сих пор не остается — ничего, кроме жгучего восхищения теми, кто настолько чувствителен, что может опознать несправедливость даже тогда, когда она кажется «долгом», и мужествен настолько, чтобы реагировать, даже когда напрямую это его не касается.