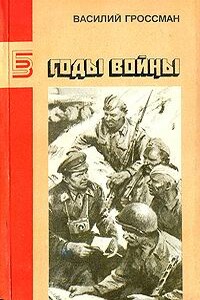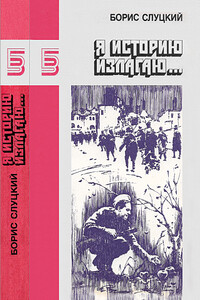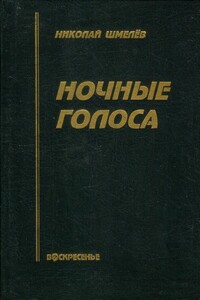Истоки. Авансы и долги | страница 92
За три месяца до кончины матушки я приезжал проведать ее. 1900 года рождения (ровесница века, стало быть), она по крестьянской привычке вставала рано и крутилась до вечера — стряпала, задавала корм поросенку, между делом вязала мне рукавички и за всем тем успевала обиходить и приласкать правнучку. В этом доме с его простыми заботами и раз навсегда заведенным порядком мне хорошо думалось. Сто раз передуманное проходило тут проверку. Мелкое, вычурное само собой отсеивалось, на дно души выпадал сухой и горьковатый осадок правды.
Многое из того, что будет далее рассказано, в разные годы я успел прочитать матери. Она умела слушать — дар ныне редкий. Время от времени вставляла: «Правда, сынок, правда, так и было», — хотя определенно не могла знать, как оно било, — сопоставлялись события далеких веков, цитировались мыслители, которых она не читала. Другой же раз посмотрит не то что с укором — с непосильным желанием понять. Тут для меня приговор: заумь, пачкотня.
За то я любил этот последний по счету родительский кров, что под ним все были сыты, обуты, одеты. «Человек выше сытости» — такую дурь мог сморозить тот, кто голода не знал. В наших краях чаша сия никого не минула. Сюда, в Мурашинский леспромхоз, семья перебралась из вятской деревушки Фоминцы, названной так по имени прадеда моего Фомы Андреевича. Туда бы съездить, благо путь недалек, прикоснуться к истокам — на излете жизни гложет душу, как красиво сказал поэт, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Да то беда, что ехать некуда — деревень в тех местах мало осталось, поля затянуло березником. Отчий край живет только в памяти сердца. В ней много чего отпечаталось, что расчетливее бы забыть, только вот не забывается. Помню первое потрясение души, из тех, что метят конец детству. Молотили рожь. Нас, школьников, отрядили погонять лошадей в приводе, а мать с другими бабами отгребала солому от молотилки. Кому не с кем было оставить «робенков» дома, усадили их на свежую солому около гумна — все же под призором. По-вятски таких звали сидунами: им лет по пять, а еще не ходят. Ножки тонкие, головы большие, животы пухлые — рахитики, словом. И вот вижу, проворно ползут они к молотилке, горстями пихают в рот зерно. А этого нельзя — набухнет зерно и порвет кишки. Матери оттаскивают их подальше, а они, окаянные, опять ползут к немереной еде…
Хлеб у нас пекли с опилками, с клеверными головками, а когда с толченой картошкой, так это праздник. Всего противнее в детстве было ходить на двор: опилки, непереваренная трава в кровь расцарапывали задний проход.