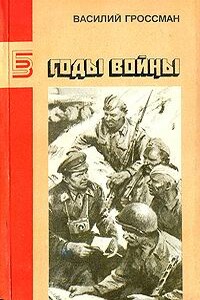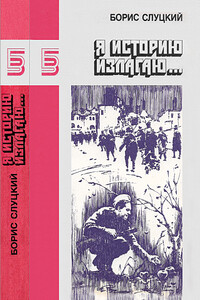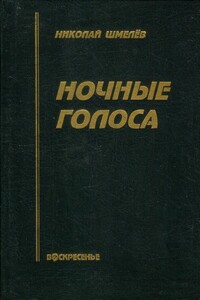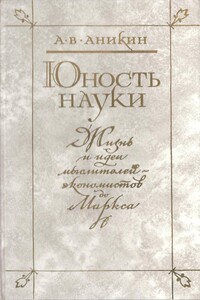Истоки. Авансы и долги | страница 57
Что же тогда служит конечным критерием, который и предприятие побуждал бы действовать эффективно, и всему народному хозяйству обеспечил бы непрерывный и быстрый прогресс? Попробуем обрисовать искомый идеал. Из всей выручки за продукцию предприятие сразу вычитает стоимость материалов и изношенного оборудования. Эти средства (так называемый фонд возмещения) необходимы для продолжения производства в прежних объемах. Затем из выручки же идут расчеты с казной. Предприятие, будь то Магнитка или самый скромный по масштабам завод, принадлежит не обслуживающему персоналу, а всему обществу. Естественно, за пользование производственными фондами положены взносы в бюджет. Наконец, завод рассчитывается с банками за кредиты. Остаток есть достояние коллектива. Он и является целью всех стараний работников.
Чувствую, как насторожился искушенный читатель: это что же, еще один чудодейственный показатель? мало ли их было? Десятки лет экономисты изобретают показатели плана, из коих один обязан якобы главенствовать. Эту роль долгое время исполняла валовая продукция. Исполняла дурно: достаточно, например, разрезать металл автогеном — и стоимость его зачтется в вал. (Пример, кстати, невыдуманный. Так и поступили лет сорок назад в одном министерстве — у них план горел, вот они и приказали изрезать эшелоны только что доставленного проката. Металл понадобился другой отрасли для исключительно важной цели. Хватились — а его уж нет. Гнев начальства был ужасен.) Позднее стали любить коллективы за товарную, то есть готовую, продукцию. Снова прокол — готовое месяцами лежало на складах. Ввели оценку по реализации: мало изготовить, надо еще продать. И тут закавыка: в 1980 году промышленность увеличила реализацию на 22 миллиарда рублей, а по договорам было недопоставлено товаров на 17 миллиардов. Значит, можно продать не то, что нужно потребителю. Сегодня в зачет идут только поставки по договорам. Результат известен из статистики, которую я приводил: горы лишних изделий перемещаются со складов поставщиков на склады потребителей.
В поисках показателей, которые работали бы на нас, доходит до курьезов. Один из участников экономической дискуссии 60-х годов, помнится, рекламировал невероятную «человекофондопродукцию»… Теперь вот автор выдумал нечто новенькое — остаточный доход. Неужто чудо все-таки состоится?
Понимаю, ох как понимаю гипотетического скептика. Но предлагаемый измеритель успеха уже потому не является очередным показателем в общепринятом смысле, что его не надо ни планировать сверху, ни контролировать исполнение. В сущности, остаточный доход — главный источник самого существования коллектива и каждого его члена. В нем, как легко понять, содержатся две составные части — зарплата и прибыль. Граница между ними подвижна. Можно увеличить зарплату, но тогда уменьшится прибыль, а стало быть, мало будет средств для строительства детских садиков, жилья, спортивных баз и прочих социальных нужд, для обновления и расширения производства. Можно, напротив, удовлетвориться пока скромными прибавками зарплаты в предвкушении будущих благ.