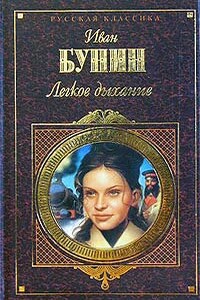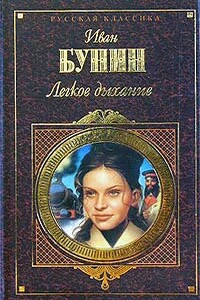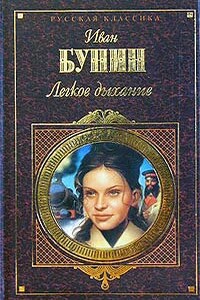Суходол | страница 40
Появление «Суходола» оживило давнишние суждения некоторых критиков о Бунине как певце старой усадебной России, грустящем о разоряющихся дворянских гнездах и оплакивающем вырубленные вишневые сады. Наиболее прямолинейно писал в начале 1900-х гг. о Бунине как о меланхолическом лирике, писателе-пейзажисте народник П. Ф. Якубович в «Русском богатстве».
И теперь многим казалось таким несомненным, что Бунин «вздыхает по умершей жуткой душе Суходола», что он, подобно Тургеневу, отразил «грустную поэзию разоряющихся дворянских гнезд». Литературный критик Е. А. Колтонвская пишет, что генеалогию его творчества надо будто бы вести от Тургенева. Вместе с тем она с восхищением говорят о том, что «Суходол» так «лиричен, так глубоко пропитан интенсивными авторскими настроениями, что к нему гораздо больше подходит название поэмы, чем повести». У Бунина, пишет Котлановская, «постепенно реалистические приемы сильно преобразились… Самое понятие реализма можно применять теперь в отношении к Бунину только с оговорками. В своем реализме он является в большей степени импрессионистом».
В критике отмечалось, что «Бунин как художник проявил в „Суходоле“ силу и чистоту таланта, превосходящие все прежде им написанное. Повесть чисто бытовая, „Суходол“ местами обращается в яркий и громадный символ: из-за помещичьей усадьбы Хрущевых вдруг выступает вся Россия, проглядывает лицо всего русского народа».
На суждения критиков о том, что Бунин в таких произведениях как «Божье древо» или «Суходол» пишет о жизни, которая канула в вечность, он возражал: «Я пишу о душе русского человека, при чем здесь старое, новое. Вероятно, и теперь какой-нибудь Яков Ефимыч трясет портками и говорит теми же присказками. А они: все это картины старой жизни, — да не в этом дело».
Критики, которые обращали Бунина в прошлое, полагая, что он следовал за Тургеневым в своем мастерстве пейзажиста, не постигали его как художника. Ф. Степун писал: «Бунин, как художник, гораздо чувственнее Тургенева: эта чувственность определенно роднит его с Толстым. Бунинский мартовский вечер не только стоит перед глазами, но проливается в легкие; его весну чувствуешь на зубу, как клейкую почку. У Тургенева <...> Ирина скачет верхом по Лихтентальской аллее; Паншин въезжает верхом на двор калитинской усадьбы, в „Вешних водах“ — опять верховые лошади. Во всех трех случаях мы представляем себе прекрасных лошадей, но лошадей вообще. У Бунина же таких лошадей вообще нет. Лошади в „При дороге“, лошади в „Деревне“, лошадь в „Звезде любви“ все совсем разные, до конца конкретные лошади. И это относится, конечно, не только к лошадям, а ко всему, что описывает Бунин». «Природа Бунина, — продолжает критик, — при всей реалистической точности его письма все же совершенно иная, чем у двух величайших наших реалистов — у Толстого и Тургенева. Природа Бунина зыблемее, музыкальнее, психичнее и, быть может, даже мистичнее природы Толстого и Тургенева».