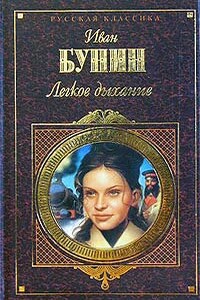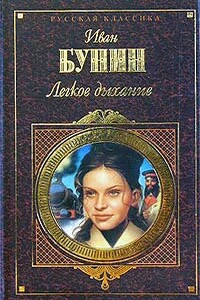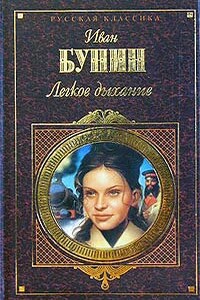Суходол | страница 39
Алексей Николаевич, отец писателя, был участником Крымской войны, куда отправился добровольцем вместе с братом Николаем со своим ополчением. Там встретился с Л. Н. Толстым. В «Суходоле» тоже братья «охотниками» пошли на войну.
Смерть Ивана Чубарова, брата матери Бунина, как писала В. Н. Муромцева-Бунина, перенесена в «Суходол» — смерть Петра Петровича, — «лошадь, шедшая сзади розвальней, убила его копытом».
В то время, когда Иван Алексеевич, подростком, бывал в Каменке, Бунины жили в Озерках, а Каменка принадлежала уже семье покойного брата отца, Николая Николаевича. Однажды, после долгой ссоры, когда они не встречались, Бунины нанесли визит владельцам Каменки, «и там Ваня с Машей, — пишет В. Н. Муромцева-Бунина, — впервые увидели свою родную тетку, Варвару Николаевну Бунину, жившую рядом с барским домом во флигеле, вернее в просторной избе. Тетя Варя была не совсем нормальна: заболела после того, как отказала товарищу брата Николая жениху-офицеру, которому все играла полонез Огинского. А отказав, после его отъезда, заболела нервно. Она прототип тети Тони в „Суходоле“».
О «Суходоле» Бунин говорил: «Это произведение находится в прямой связи с моею предыдущей повестью „Деревня“. Там в мои задачи входило изображение жизни мужиков и мещан, а здесь…
Я должен заметить, что меня интересуют не мужики сами по себе, а душа русских людей вообще.
Некоторые критики упрекали меня, будто я не знаю деревни, что я не касаюсь взаимоотношений мужика и барина и т. д.
В деревне прошла моя жизнь, следовательно, я имел возможность видеть ее своими глазами на месте, а не из окна экспресса… Дело в том, что я не стремлюсь описывать деревню в ее пестрой и текущей повседневности. Меня занимает главным образом душа русского человека в глубоком смысле, изображение черт психики славянина.
В моем новом произведении „Суходол“ рисуется картина жизни следующего (после мужиков и мещан „Деревни“) представителя русского народа — дворянства. Книга о русском дворянстве, как это ни странно, далеко не дописана, работа исследования этой среды не вполне закончена. Мы знаем дворян Тургенева, Толстого. По ним нельзя судить о русском дворянстве в массе, так как и Тургенев и Толстой изображают верхний слой, редкие оазисы культуры. Мне думается, что жизнь большинства дворян России была гораздо проще, и душа их была более типична для русского, чем ее описывают Толстой и Тургенев <...> Мне кажется, что быт и душа русских дворян те же, что и у мужика; все различие обусловливается лишь материальным превосходством дворянского сословия. Нигде в иной стране жизнь дворян и мужиков так тесно, близко не связана, как у нас. Душа у тех и других, я считаю, одинаково русская. Выявить вот эти черты дворянской мужицкой жизни, как доминирующие в картине русского поместного сословия, я и ставлю своей задачей в своих произведениях. На фоне романа я стремлюсь дать художественное изображение развития дворянства в связи с мужиком и при малом различии в их психике».