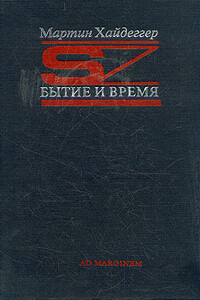О поэтах и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Тракль | страница 68
Но каким образом отрешенность становится местностью поэмы, – той поэмы, которую образуют стихи Георга Тракля? Да и имеет ли отрешенность вообще и по своей сути отношение к сочинению стихов? И даже если такое отношение доминирует, каким образом отрешенности удается привлечь поэтическую речь, поэтическое сказывание к себе как к местности этой речи и распоряжаться ею оттуда?
Но есть ли отрешенность – одинокое молчание тишины? Каким образом отрешенность указывает путь сказыванию и пенью? Но ведь отрешенность не является уединенностью-безысходностью отмершего. В отрешенности Чужеземец исследует свое прощание с прежним родом. Он находится на пути к некой тропе. Что это за тропа? Подчеркнуто отчетливо поэт говорит об этом в демонстративно отделенной финальной строке стихотворения «Истаяло лето» (169):
Тропа Чужеземца – это «блаженное пенье его духоносных лет». Это шаги Элиса звенят. Это звучащие шаги светятся в Ночи. Затихает ли в пустоте их блаженное пенье? И в каком смысле отрешен Умерший-в-ранней-рани – в смысле избранности, предназначенности, то есть отозван в ту соборность, которая собирает кротко и созывает тихо? Во второй и третьей строфах стихотворения «Одному рано почившему» (135) этим нашим вопросам подан знак:
Друг прислушивается вослед Чужеземцу. И в этом вслушивании он следует за Отрешенным, сам незаметно становясь странником, пришельцем, чужеземцем. Душа друга прислушивается к Умершему. Лик друга – «умирающий» (143). Он вслушивается, в то же время воспевая смерть. Потому-то этот поющий голос есть «птичий голос подобия смерти» («Странник», 143). Он соответствует смерти Чужеземца (Пришельца), его гибельному уходу в Синеву ночи. Но вместе со смертью Отрешенного он воспевает и «зеленое тленье» того рода, от которого его «отделяет» сумеречное бродяжничество, странствие.
Петь означает благословлять, сберегая пением благословляемое. Прислушивающийся друг – один из «благословляющих пастырей» (143). Однако душа друга, «радостно внимающая сказкам седого мага», лишь тогда способна подпевать Отрешенному, когда отрешенность сама встречно звучит этому Наследнику, преемнику, когда звучит звучное блаженное пенье, когда, как об этом говорится в «Вечерней песни» (83), «сумеречный блаженный звук настигает душу».