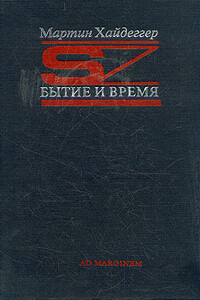О поэтах и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Тракль | страница 69
Когда это происходит, тогда дух Рано-почившего является в сиянии ранней рани, духоносные годы которой суть подлинное время Чужеземца и его друга. В сиянии этих лет облако, прежде бывшее черным, превращается в золотое. Оно становится похожим на «золотой челн», подобный тому, который раскачивает на одиноком небе сердце Элиса.
Последняя строфа стихотворения «Одному рано почившему» (136) звучит так:
Поражающе блаженному звуку шагов Чужеземца соответствует приглашение друга к разговору. Их сказыванье, их речи – поющее странствие вниз по реке, следование в гибельный закат ночной Синевы, оживляющей дух Рано-ушедшего. В ходе этой беседы поющий друг созерцает Отрешенного. Посредством этого созерцания он во встречном взгляде Чужеземца становится ему братом. Странствуя с Чужеземцем, брат достигает кроткого жительства в ранней-рани. В «Песни отрешенного» (177) он возглашает:
О жительство в одухотворенной Синеве ночи!
Однако ему внимающий друг поет «Песнь отрешенного» и таким образом становится ему братом, брат Чужеземца впервые благодаря этому становится братом своей сестре, чей «лунный голос звучит в священной ночи», о чем повествует финальная строка стихотворения «Священные сумерки» (137).
Отрешенность есть местность поэмы, ибо блаженный звук звеняще-свистящих шагов Чужеземца возжигает сумеречное странствие тех, кто следует за ним, до состояния услушивающегося пенья. Их странствие темно потому, что лишь последующе-преемственное странствие высветит однажды их души в Синеве. Сущность поющей души – некое особое пред-видение в Синеве ночи, хранящей кроткую раннюю рань.
Голубое мгновение – что это? Лишь чуточку больше души, –
сказано в стихотворении «Детство» (104).
Так завершается существо отрешенности, которая лишь тогда становится завершенно-совершенной местностью поэмы, когда, будучи средоточием тихого детства и одновременно могилой Чужеземца, собирает к себе тех, кто следует за Рано-ушедшим в гибельный закат; и вот, внимая ему, они переводят блаженное пенье его тропы в сообщительство реальной речи, превращаясь в этом процессе в Отрешенно-усопших. Их пенье – сочинение стихов. Как это удается? Что значит сочинять стихи?
Сочинять стихи значит: пере-сказывать; вторить изреченному блаженному пенью духа отрешенности. Сочинение стихов, прежде чем стать сказыванием в смысле выраженности-обнаруженности, длительнейше являет себя в качестве вслушивания. Отрешенность вводит вслушивание в свое блаженное пенье, дабы оно музыкально просквозило сказыванье, в коем оно обретает свою вторую жизнь. Лунная прохлада священной Синевы духоносной ночи наполняет звуком и сияньем полноту созерцанья и сказыванья. Их язык становится, таким образом, пересказывающим, становится поэзией. Высказанное пасет стихотворение в качестве сущностно несказа́нного. Это посредством вслушивания призванное пересказывание становится благодаря этому «более кротким», то есть более податливым по отношению к зову тропы, по которой Чужеземец идет вперед: из сумрака детства в тихую, ясную предрассветность. Потому-то вслушивающийся поэт и говорит, обращаясь к себе: