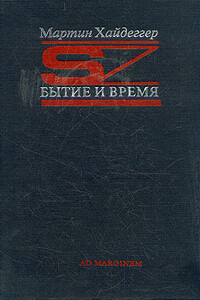О поэтах и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Тракль | страница 67
Но кто же хранит эту могучую боль, если она питает жаркое пламя духа? Все, что одной породы с этим духом, принадлежит к энергии, выводящей на путь. Все, что одной породы с этим духом, зовется «духоносным» (geistlich), священным. Поэтому поэт «духоносносвященными» называет сумерки, ночь и годы: в первую очередь это и исключительно это. Сумерки дают возможность явиться Синеве ночи, ее воспламененью. Ночь пылает как светящееся зеркало звездного озера. Год возгорается, поскольку он покоится на пути солнечного движения, его восходов и закатов.
Что же это за дух, побуждающий «Духоносное» к бодрствованию и к следованию за собой? Это тот самый дух, что в стихотворении «К одному рано почившему» специально назван «духом почившего в юности» (136). Это дух, уводящий в отрешенность «нищего» из «Духовной песни» (20), и тот говорит (как это видно из стихотворения «В деревне», 81), что «бедняк» пребывает «в духе одиноко умершим».
Отрешенность бытийствует в качестве чистого духа. Она есть покоящееся в своей глубине, тихо пылающее сияние Синевы, воспламеняющей тихое детство в золото Начала. Навстречу этой рани смотрит золотой лик образа Элиса. В его встречном взоре рань сохраняет ночное пламя духа отрешенности.
Так что отрешенность не есть ни состояние Рано-умершего, ни некое неопределенное место его пребывания. Отрешенность по сути своего пылания есть собственно Дух и в качестве такового она – сама сосредоточенность, забирающая сущность умерших и приводящая их назад в их тихое детство, укрывающая их и защищающая как еще не выношенную породу людей, которой предстоит создать будущий человеческий род. Эта сосредоточенность, внутренняя центрированность отрешенности бережет Нерожденное, перенося его поверх отжившего в грядущее возрождение человеческого рода, возрождение из глубин рассветной рани. В качестве духа кротости эта внутренняя сосредоточенность утишивает также и духа зла, мятеж которого достигает предельного коварства тогда, когда он, прорвавшись из разлада полов, врывается в сферу сестринско-братского.
Однако сестринско-братская раздвоенность человеческого рода таится и в тихой простоте детства. В отрешенности дух зла ни уничтожается/отрицается, ни высвобождается/самоутверждается. Зло здесь преобразовывается. Чтобы такое «преобразование» выдержать, душа должна обратиться к величию своей сущности. Масштаб этого величия определяется духом отрешенности. Отрешенность – это та сосредоточенность (собранность), благодаря которой человеческая сущность укрывается-спасается в своем тихом детстве, а само детство – в ранней рани следующего (в возвратном порядке) начала. В качестве такой собранности отрешенность обладает сущностью местности.