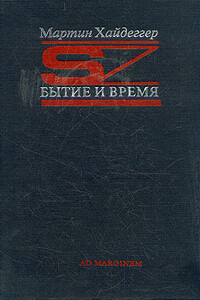О поэтах и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Тракль | страница 66
Строфа эта – истинная песнь боли, спетая, дабы завершить трехчастное стихотворение «Светлая весна». Добрая ясность ранней рани всякого начинающего существа сотрясается внутренней дрожью из тишины сокровенной боли.
Обычному представлению противоюркая сущность боли, освободиться от которой, собственно, можно лишь посредством возвратного рывка, легко покажется абсурдной. Однако именно в таком выявлении скрывается сущностное простодушие боли, которое, пылая, уносится к самому отдаленному, в то же время удерживаясь в созерцании наиболее задушевного.
Таким образом, боль в качестве основной характеристики великой души длит свое чистое соответствие святости Синевы. Ибо последняя светит навстречу лику души, в то время как та уходит в свои собственные глубины. Святое длится, покуда бытийствует, причем уклончиво сдерживает себя, придавая созерцанию кротость.
Обретя словесное выражение, сущность боли тайные свои взаимоотношения с Синевой обнаружила в последней строфе стихотворения «Просветление» (114):
«Цветок голубой» – это «нежный букет синих васильков» священной Ночи. Этой речью воспет исток, к которому восходит творчество Тракля. Одновременно она заключает в себе, она несет «просветление». Поэтическая песнь – это романс, трагедия и эпос в единстве.
Это стихотворение уникально среди остальных, ибо в нем широта созерцания, глубина мысли, простота речи светятся сердечно-искренне и ровно неким несказанным образом.
Боль лишь тогда подлинна, когда служит пламени духа. Последнее стихотворение Тракля называется «Гродек». Превознося, его называют стихотворением о войне. Однако оно о чем-то бесконечно большем, ибо о другом. Его последние строки гласят (201):
Горячее пламя духа окармливает ныне могучую боль, нерожденных внуков.
Упомянутые здесь внуки – ни в коем случае не оставшиеся незачатыми сыновья павших сынов, восходящих к растленному человеческому роду. Если бы речь шла лишь об этом, о прекращении воспроизводства предыдущих поколений, тогда поэт мог бы лишь ликовать по поводу такого финала. Но он печалится; правда, печалится «величаво-гордой» печалью, пламенно созерцающей покой Нерожденных.
Нерожденные называются внуками, ибо они не могут быть сыновьями, то есть непосредственными потомками падшего рода. Между ними и наличным поколением живет некая иная генерация. Она – иная, ибо другого типа, соответственно своему иному сущностному происхождению из рассветной рани Нерожденного. «Могучая боль» – это всёсожигающее созерцание, заглядывающее в пока еще уклоняющуюся рань того Мертвеца, навстречу которому устремлялись, умирая, «души» тех, кто погибли юными.