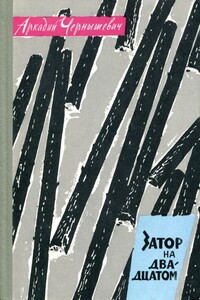Через сердце | страница 11
— Да-а, — говорит прапорщик Вильде, убирая в стол негативы, — я все-таки думаю, что этот человек — провокатор.
— Н-да? Вы так думаете? — вежливо поддерживает генерал малоинтересный для него разговор.
— Я в этом убежден, генерал.
«Ваше превосходительство», — поправляет его про себя генерал и спрашивает безразлично:
— А почему именно такое ваше мнение?
Прапорщик сдергивает коврик с окна и тушит фонарь. И, точно в свете дня можно теперь говорить без обиняков, продолжает деловито:
— Приехал к нам на митинг. Ну конечно, вызвали музыкантскую команду, — трам-та-рарам, — конечно, истерическая «зажигалка», целование с солдатом и прочее. Словом, уломал. Вынесли резолюцию: наступать. Остался он у нас переночевать. А наутро приходят к нему представители полковых комитетов и заявляют: «Отдумали, не будем наступать». Прослезился, говорят, и уехал дальше. Не желаю, мол, с вами после этого разговаривать. А тут через день его же приказ о наступлении. Ну, тех, кто пошел в наступление, и перекрошили. И немцы крошили, и свои сзади. Вот оно как!..
И, размахивая снимком в воздухе для просушки, прапорщик с прежней тихой язвительностью повторил:
— Ценно для истории, господин главноуговаривающий.
«Да что он мне все про историю?» — подумал генерал с неудовольствием, — показалось, что прапорщик в чем-то поучает его.
Генералу, как и другим офицерам штаба, не нравился этот долговязый прапорщик с некрасивым бородатым лицом, с остро-веселыми точечками в глубоких берложках глазниц. Среди офицеров штаба слыл он ученым человеком, чуть ли не профессором, говорили — знаток каких-то древностей, гробокопатель.
«А мужик мужиком», — оглядел его искоса генерал.
К запущенной бороде и худым плечам прапорщика, может быть, действительно и был бы хорош длиннополый профессорский сюртук, но военная короткая гимнастерка с опавшими погонами сидела на нем ужасающе куце и нелепо.
«Свистящей глистой» злоязычно прозвал его кто-то в штабе, — вероятно, в отместку за те ехидные прозвища, которыми наделял он окружающих. Но все были вынуждены терпеть его снисходительное самодовольство: в спорах, затевавшихся в собрании, он легко и грубо расправлялся с противниками. Многие носили на себе занозы его колких острот. Офицеры с ним поэтому не спорили и в разговорах старались держаться знакомых и близких пределов.
— История — дело десятое, — сказал генерал с осторожной наставительностью. — О завтрашнем дне подумать надо. Что завтра с нами будет?