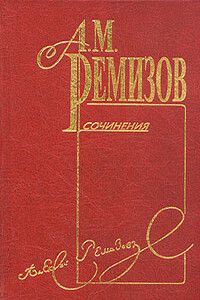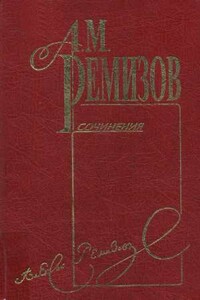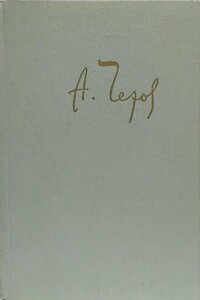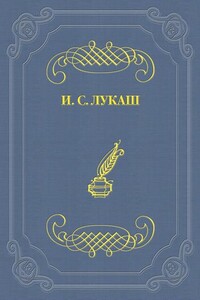Плачужная канава | страница 19
Там, на дне зашевелились мелкие гады.
А храм, как карточный домик, рухнул.
Его обманули. Он обманул. Сам себя обманул.
И рос ужас перед человеком, перед самим собой, заволакивал, заслонял тот маленький свет, что метущийся светил под бурей.
Опозорил он, оклеветал все незапятнанное, отверг доверчивый взор, как лукавство, подслушал в боли притворство, и видел уж одну гадость, одни помои, одни ямы жизни.
Осталось одно, оно казалось непомерным – сердце.
Неправда, оно не могло вместить такую любовь, чтобы остановить руку смерти. Когда казнили его друга>45, что он делал?
Что он сделал? что он мог сделать?
Он словом своего сердца бессилен был рассечь пространство и повернуть смерть. И слово трепетало на его губах, как блеклый лист на осенней ветке.
– Смерть за смерть>46, иди и отмсти!
– Смерть за смерть… разве месть вернет отнятую жизнь, разве смерть сотрет смерть, разве местью заполнится сердце… мое сердце?
– Так умри сам.
Не умер.
Спрятал бы тогда лицо, ушел бы на край света, лишь бы никто не видел, лишь бы не видеть никого.
Кого мог кликать, кого умолять? – а в отчаяньи все-таки кликал и умолял.
И пришли они, эти дни, своей чередой, полегли на душу всей тяжестью неверия и сомнения, а горечь стягивала его добела – раскаленным кольцом.
Все двери были настежь отворены, а за ними пустота, ничего.
Веки стали такими тяжелыми, с трудом продирал глаза; и перехватывало горло, не мог слова выговорить.
И сдвинулись с своих подножий тысячелетние башни>47 – вся мудрость человеческая. Ни одна из них не доросла до небес.
Человек не утаит своих казней, – разъест ненависть всякий уклад.
Но если сумеешь жить, построй свой храм человеческий и живи, припеваючи!
Вдруг в памяти у него мелькнула одна картинка, от которой он долгое время не мог отделаться.
Это было по случаю каких-то вестей с войны>48. Улицы запрудила тысячная толпа, и под звуки гимна победоносно двигалось шествие.
Пересекавший дорогу трамвай затормозили. И вот из-под колес выползла искалеченная собачонка.
Визжа, с высунутым кровавым языком, болтающимся на раздробленной челюсти, и размахивая переломленной висящей ногой, как хвостом, пустилась собачонка навстречу опьяненной уверенной толпе.
С пением наступала толпа.
А этот собачий визг плевал в одичавшие от успеха лица торжествующих, в иконы, в хоругви, в портрет и пронзал крики, музыку, гимн и восклицания.
И, когда все разошлись по домам – кончились празднества, а собачонка где-то под забором подохла, визг ее не прекращался.