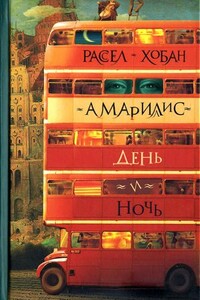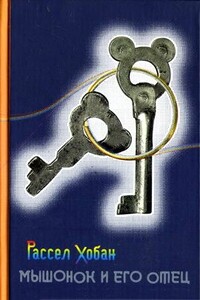Лев Боаз-Яхинов и Яхин-Боазов. Кляйнцайт | страница 146
Мы будем делать это здесь? – спросил глокеншпиль.
Здесь, сказал Кляйнцайт и принялся блямкать. Сестра стояла напротив него с сияющей каской в руках. Серебряные ноты громоздились, словно сам себя собирал анатомически невежественный скелет. Прохожие кривились, содрогались, смотрели на Сестру, кидали деньги в каску. Кляйнцайт и Сестра не смотрели друг на дружку. Кляйнцайт сосредоточился на чтении тех нот, что написал. Нутро головы его щебетало и попискивало, словно ускоренная пленка, но он не замедлял ее, чтобы послушать. Сестра держала каску, а деньги сыпались, говорила «спасибо», дивилась мелодии, которую громоздил Кляйнцайт, не понимала, когда появится Рыжебородый.
Кляйнцайт доиграл мелодию, сыграл еще раз с меньшими ошибками.
Только не снова, сказал глокеншпиль. Мне что-то нехорошо. У меня голова болит.
Кляйнцайт импровизировал. В коридоре накапливались разные части скелетов. Прохожие стонали. Кляйнцайт пустился в мотив «Dies Irae»[27], уныние повисло туманом над перемешанными костями, Сестра заскрипела зубами, в каску посыпались деньги. Глокеншпиль, сбрендив, забыл себя.
– На улице побирался парняга с волынкой, но был совсем не так плох, как этот, – заметил какой-то мужчина своей жене, бросая деньги в каску.
– Прямо не знаешь, как к этому относиться, – ответила та. – Что толкает их вот так выходить на улицу?
Молодой человек с гитарой глянул на Кляйнцайта, глянул на Сестру, спросил глазами.
Нет, ответили глаза Сестры.
Подошел Рыжебородый, обдав их запахами вина, мочи, подымающейся сырости и плесени, без котелка на голове. Глянул на Сестру, глянул на Кляйнцайта.
– Эге, – произнес он. – Охты-ахты. Ням Ням, музыка, все на месте. Так быстро, так скоро.
– Что? – спросил Кляйнцайт.
– Я вне игры, – сказал Рыжебородый. – А ты в игре. Так-то. Даже афиша еще не изменилась. Сегодня на экране: МЕЖДУ, ПЕРЕВОРОТЫ и ты.
– Уж вот так вот, – сказал Кляйнцайт.
– Уж вот так вот, – ответил Рыжебородый. Похоже, он собирался сказать что-то еще, но не стал. Смердя и комковато со своею скаткой и хозяйственными сумками, он шатко пошел прочь.
Кляйнцайт поимпровизировал еще. Сочинил мелодию для того, что ходило вверх тормашками в бетоне и наложило свои холодные лапы ему на попу.
Из глубины, издалека снизу, промолвила Подземка. Внимай.
Внемлю, отозвался Кляйнцайт.
Вспомни, сказала Подземка.
Стараюсь, как могу, ответил Кляйнцайт. Из него цвели глубокий озноб и безмолвие, как жар из батареи. Глубокий озноб и безмолвие текли сквозь него, стеклили воздух, рисовали на нем морозные цветы безмолвия, затягивали лужицы звука прозрачным тонким льдом безмолвия.