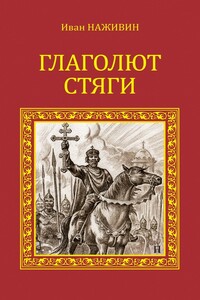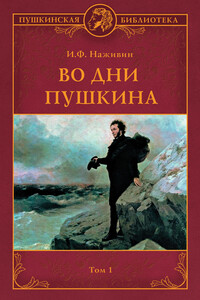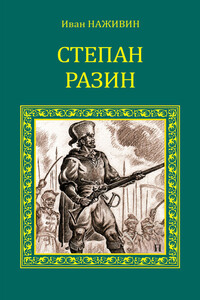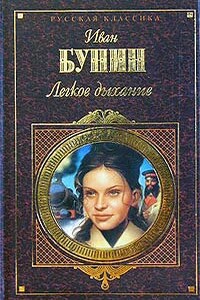Перун | страница 135
Шураль еще раз низко поклонился на все четыре стороны и мягким спорым шагом направился по дороге в город.
Народ точно проснулся и возбужденно и радостно загалдел. Некоторые отошли от толпы в сторону, думали что-то, молчали и глаза их напряженно сияли…
— Здравствуйте, барин! — поклонился Льву Аполлоновичу белобрысый парень. — Меня Марья Стегневна к вам было послала, — вот как хорошо потрапилось, что я вас здеся встретил…
— А-а… — ласково отвечал Лев Аполлонович, признав Митюху, работника Бронзовых. — В чем дело?
— Так что хозяин наш Петр Иваныч приказал вам долго жить…
— Как?! — встрепенулся Лев Аполлонович. — Когда?!
— В ночь. Ударом… С вечера такой веселый был, чай с Марьей Стегневной пил, все, как следоваит, а в ночь и преставился… — сказал Митюха. — Сичас я на полустанок гонял, телеграм Лексею Петровичу подал, а оттедова сюда вот хозяйка велела заехать насчет псалтыря, а потом к вам наказывала побывать, чтобы на панифидку вас звать…
— Конечно, конечно… Кланяйся Марье Стегнеевне и скажи, что буду…
Он простился с Митюхой и, взволнованный вестью о смерти Петра Ивановича, сел в свою старенькую коляску и спустился к перевозу.
Мать Софья Премудрая переправила Льва Аполлоновича на тот берег и, получив от него двугривенный, все низко кланялась ему и благодарила. А он, снова сев в коляску, все повторял себе слова Шураля: Бог сам свое место всему укажет… Да, да… — подумал он радостно. — Весь секрет в том, чтобы ни о чем не заботиться, а только свое дело исполнять… А в чем мое дело, теперь я знаю наверное: в жалости, в сострадании, в любви, в милосердии…
И снова все его существо залил радостный и пугающий свет и он должен был собрать все свои силы, чтобы не заплакать от умиления. И всегда торжественное известие о смерти — в котором всегда кроется напоминание о смерти своей, — придавало и этому свету, и этому умилению углубленное и торжественное значение.
«Как все сразу стало ясно, просто и легко!» — думал он. — Вот он сейчас приедет домой и позовет их обоих, и скажет им мягко и ласково, что он им и не судья и не враг и что они могут поступать, как находят лучше… И в голове его сами собой складывались эти новые, мягкие, ласкающие слова и из взволнованной души все просились горячие слезы безграничной радости. Как все просто, как хорошо, как легко — только свести к нулю себя! И нет, второй раз так, как поступил он тогда на «Пантере», он уже не поступит и крейсера не взорвет! Не дисциплина, не порядок, не честь, не слава, не государство, — сострадание, вот в чем суть жизни! Со-страдание — повторил он вполголоса внимательно, — страдание с кем-нибудь вместе… Какое прекрасное и какое неверное слово! Как только является со-страдание, так разом превращается оно в этот ослепляющий свет радости…