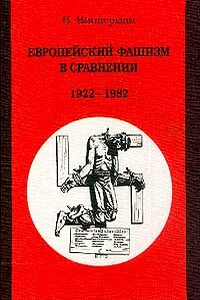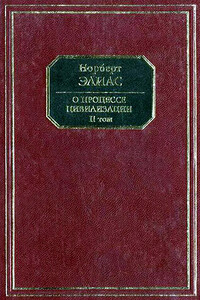Придворное общество | страница 51
«Кроме них, — говорит Энциклопедия[38], — ни один человек, какое бы положение он ни занимал, не вправе поместить название „palais“ над воротами своего дома».
Но этой сословной дифференциации названии соответствовала, конечно, и сословная дифференциация в устройстве самих жилищ. Наглядно представив себе эту дифференциацию, мы одновременно увидим с определенной стороны и всю структуру этого общества. Основную массу городских жилых построек составляли так называемые «maisons particulières»[39]. Это выражение показательно: перевод его как «частные дома» лишь очень приблизительно передает социальный характер этих домов. Сегодня понятие «частного» представляет собою — хотя не только, но все же преимущественно — антоним к понятию «профессионального». Жилой дом высокопоставленного чиновника мы тоже назвали бы «частным домом», если он принадлежит ему лично и помещения в нем не используются владельцем для его профессии, т. е., например, как конторы. В эпоху же ancien régime, напротив, именно дома основной массы занятых профессиональным трудом людей называли «maisons particulières», в том числе и даже именно в тех случаях, когда их дома служили профессиональным целям. Их называли так в отличие от жилищ тех социальных слоев, которые выделялись, собственно говоря, не профессией в нашем смысле слова, но в первую очередь своим более или менее высоким положением: от жилищ знати, духовных лиц, магистратов или юристов, а также финансистов, т. е. налоговых откупщиков.
Между прочим, чувствительность к этому различию между профессиональными и сословными слоями общества находит ясное выражение в языке эпохи: стать священником или офицером, юристом или финансистом[40] — это, говорит один писатель в пятидесятые годы, называется «вступить в сословие» (prendre un étal). «Прочие занятия граждан, то есть более полезные, довольствуются унизительным названием профессии или ремесла»[41].
Из этого замечания непосредственно видно, как под покровом сословных слоев, поначалу презираемые ими, а затем постепенно занимая все более высокое положение, растут профессиональные слои общества. Сами люди сословного общества, и прежде всего люди задающего в нем тон придворного круга, принцы и «гранды ведут, в собственном своем понимании, более или менее „публичную“