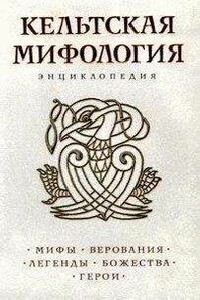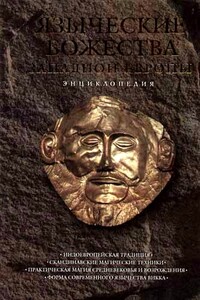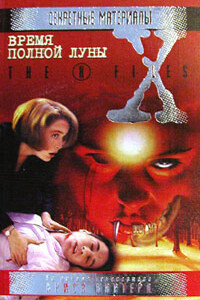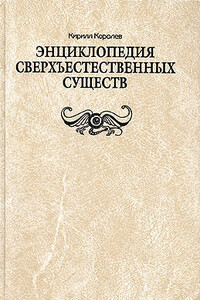«Изобретая традиции»: метаморфозы фольклорных сюжетов и образов в славянской фэнтези | страница 10
Ряд идеологем «Велесовой книги» сегодня используется уже как стереотип массовой культуры. Например, В. Ю. Панов, автор цикла романов «Тайный город», сюжетно и тематически никак не связанного со славянской фэнтези, дает имя «Навь», восходящее к триаде «Явь — Правь — Навь» из «Велесовой книги»[14], одному из Великих Домов Тайного города. Любопытно, что Правь в некоторых художественных и во многих публицистических «родноверских» текстах истолковывается не как закон, установленный богами и исполняемый людьми, наподобие Веннской Правды в мире Волкодава, а как само небо, элемент трехчастной структуры мира. Из той же «Велесовой книги» в массовую литературу проник и Велес как бог ремесла и этических ценностей («правды»). Образ «скотьего бога» Велеса в славянской фэнтези вообще приобрел множество характеристик, так или иначе связанных с гипотетической реконструкцией В. В. Ивановым и В. Н. Топоровым «основного мифа» [Иванов, Топоров 1982, с. 227]. Так, в цикле Е. А. Дворецкой «Князья леса» Змей-Велес охраняет похищенную им богиню весны Лелю (здесь «основной миф» пересекается с гипотезой «Фаминцына — Рыбакова» о присутствии в древнеславянском пантеоне богинь Лады и Лели [Рыбаков 1981, с. 393–408]), а впоследствии сражается за нее в ритуальной битве с Перуном. В романе О. А. Григорьевой «Колдун» Велес противостоит Христу и препятствует крещению Руси. Кроме того, Е. А. Дворецкая вводит в пантеон славянской фэнтези женскую ипостась Велеса — Велу, «Хозяйку Подземной Воды» и супругу Велеса. А в цикле О. А. Шелонина и В. О. Баженова «Ликвидатор нулевого уровня» Велес предстает в образе деревенского сторожа с ружьем, который охраняет путь к христианскому раю (!) и регулярно спасает главного героя от необдуманных поступков (почему этот персонаж носит имя Велеса, «древнего славянского бога», как сказано в тексте, и для чего авторам понадобилось ввести в повествование эту фигуру, из сюжета понять невозможно). Помимо «Велесовой книги», авторы славянской фэнтези обращаются к таким текстам, как «исследования» М. Л. Серякова, В. А. Чудинова, В. Н. Демина и других представителей отечественной паранауки. Кроме того, некоторые авторы опираются при конструировании своих вымышленных миров на манифесты и сочинения неоязычников-родноверов. В частности, Е. А. Дворецкая в интервью сообщила, что в трактовке славянского язычества следует работам волхва Велеслава (И. Г. Черкасова)[15], руководителя Русско-Славянской Родноверческой Общины «Родолюбие». Следование Велеславу — который сам во многом следует Б. А. Рыбакову, к примеру, в описании функций Мокоши, Велеса и других божеств — проявляется у Дворецкой и впредставлении языческого условно-славянского пантеона (от Рода до Сварожича и Стрибога), и в не менее условном славянском календаре (дни Велеса, дни Макоши и т. д.), в описании обрядности («славы» в честь различных божеств), социальной организации (родовые общины, «старцы»-управители и т. п.) и даже принципов магии и демонологии (один из персонажей романа «Огненный волк» превращается после гибели в упыря, потому что «презирал Родовой Искон» [Велеслав 2008, с. 31]).