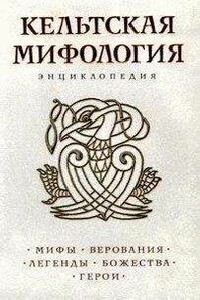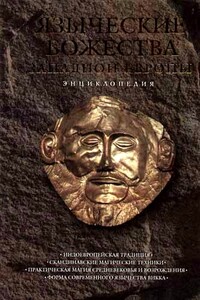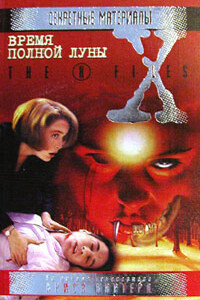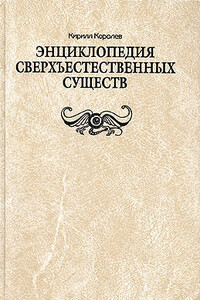«Изобретая традиции»: метаморфозы фольклорных сюжетов и образов в славянской фэнтези | страница 9
В этом же интервью М. Г. Успенский называет в числе своих источников еще два имени, упоминание которых доказывает, что для массовой культуры не существует разницы между научными, «нестрогими» и откровенно паранаучными источниками, значение имеет только ценность того или иного текста в массовой культуре. В одном ряду с А. Н. Афанасьевым, В. Я. Проппом и К. Леви-Стросом он называет Ю. П. Миролюбова, «автора» (или «первооткрывателя») «Велесовой книги», а к составителям нормативных словарей причисляет А. И. Солженицына — как автора «Русского словаря языкового расширения». Учитывая популярность такого «синтетического» подхода среди писателей, впору даже говорить о приверженности паранауке, которая проявляет себя в моделях и идеологемах, используемых при построении сюжетов, в выборе типажей и персонажей, наконец, в обращении к источникам, санкционирующим и легитимизирующим, по мнению авторов, данные концепции. В особенности это верно в отношении славянского язычества — здесь выстраивается целый ряд авторитетов, чьи теории авторы славянской фэнтези используют в качестве отправной точки для реконструкции в своих книгах «настоящей славянской магии» и «настоящего славянского пантеона». В результате массовый читатель, убежденный ссылками на авторитеты, начинает воспринимать паранаучную картину мира как реальную историю, вследствие чего в массовом сознании мало-помалу формируется образ «истинного» прошлого.
В качестве наиболее показательного примера приведем общественную дискуссию о «Велесовой книге». Отсылки к «Велесовой книге» и прямые цитаты из нее и из аналогичных произведений можно обнаружить в том числе в романах «королевы славянской фэнтези» М. В. Семеновой. Учитывая популярность произведений М. В. Семеновой, не удивительно, что славянская фэнтези во многом эволюционирует именно в паранаучном духе. И цикл о Владигоре Л. Бутякова, и романы О. А. Григорьевой, и цикл о Властимире Г. В. Романовой, не говоря уже о тетралогии «Гиперборея» Ю. А. Никитина и его многотомной эпопее о Троих из Леса (с подробными экскурсами в историю и мифологию Гипербореи — дохристианской, даже доисторической Руси; один из персонажей по ходу действия превращается из скифа в бога Сварога), — все эти произведения широко используют теории и гипотезы паранауки.
Так, Ю. А. Никитин в романе «Князь Рус» (1998, первый роман цикла «Гиперборея») обращается к «скифской» теории происхождения славян академика Рыбакова и увязывает эту теорию с «нордической» теорией Н. Р. Гусевой [Гусева 1998]: молодой «княжич» Рус, потомок великого царя Пана (!), ведет своих спутников на север, где «стена льда с версту в высоту, а в длину — до самого края мира». В этом северном краю обитает диковинный народ с библейскими именами, в преданиях которого упоминается о Яфете, Аврааме и Саре (видимо, иудеи или хазары). После множества сражений Рус и его спутники оседают в Гиперборее, откуда позднее, в IX столетии, их потомки несут просвещение в земли восточных славян (роман «Ингвар и Ольха», 1998). Родство с северянами-гиперборейцами обнаруживает и венн Коренга, герой романа М. В. Семеновой «Там, где лес не растет»(2007), действие которого разворачивается в мире Волкодава; более того, пес, спутник Коренги, оказывается не кем иным, как крылатым Симарглом.