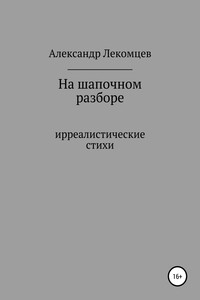Дело Судьи Ди | страница 43
«А каков в данном положении мой путь?».
Вмешаться?
Не хватало еще, чтобы на совести повисли и эти самочинные смерти.
Один из тех, что четками обездвижил сидящих французов, наклонился и что-то быстро и нервно заговорил по-арабски. Замелькали непонятные «аль» и «эль» — и еще, чуть ли не через два слова на третье, какая-то «кирха». Отчетливо, различимо — говоривший упирал на это слово, произносил его настойчиво и громко. «Вот новый сюрприз, — подумал Богдан, так и не понимая еще, что ему делать. — Чтобы мусульмане о какой-то кирхе так беспокоились…» И тут прозвучала знакомая фраза, Богдан слышал ее от бека и по-русски, и по-арабски не раз: «Ва инна хезболлах хум аль-галибун!»
«Это прямо из Корана, — сообразил Богдан. — „Воистину те, кто привержен Аллаху, станут семьей, которая победит!“ Хезболлах… приверженцы Аллаха или как-то так, да… Бек Кормибарсов, помнится, говорил, что по Корану так называются люди, связанные друг с другом и с Аллахом обязательством взаимопомощи. Что же это творится, святые угодники? И при чем тут кирха?»
Полупридушенные французы отчаянно замотали головами на оплетенных тугими четками шеях и залопотали перепуганно и недоуменно. Не надо было и язык знать, чтобы понять, о чем они лопочут; мало ли бесед с заблужденцами имел на своем веку Богдан (без применения подобных мер воздействия, разумеется), мало ли он слышал, как человеконарушители все отрицают. Не знаю, не видел, не слышал, ни при чем я тут, вы что-то путаете, преждерожденный начальник…
Усманов досадливо отбросил журнал.
— Не могу читать, — сказал он шепотом. — Кулаки чешутся.
— Не надо, — так же тихо ответил Богдан.
— Понимаю, что не надо. А чешутся, шайтан… Сколько раз я летал — а первый раз такое.
«И не только с Усмановым», — подумал Богдан с академичной отрешенностью. Последний — зато совсем уж запредельный — случай подобного рода случился третьего июля шестьдесят второго года[34], почти сорок лет назад. Буквально через четыре часа после того, как было объявлено о предоставлении бывшей алжирской колонии широкой автономии и прав, равных правам метрополии, — некоторым, как всегда бывает, и этого оказалось мало, — девятнадцатилетний алжирец, крайне недовольный какими-то пунктами манифеста (он оставил письмо, но Богдан, конечно, не помнил деталей, все это было слишком далеким от его служебных обязанностей), на угнанном в руанском аэропорту одноместном спортивном воздухолетике протаранил, пожертвовав собой, Эйфелеву башню… Весь мир тогда был просто в шоке.