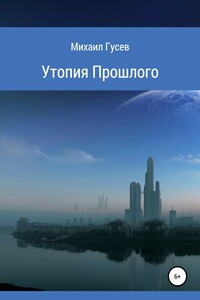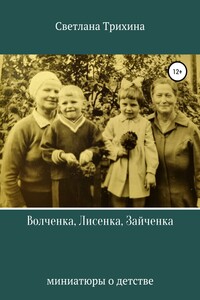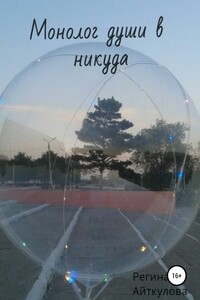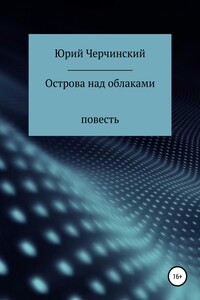Становление бытия | страница 47
Но здесь имеет место инверсия каузального следования в темпоральности. Она состоит в том, что выбор осуществляется в момент разрешения парадоксального положения и определяется сопровождающим его моментом императивности самоутверждения события.
ВРЕМЯ
Единственный ресурс для такого выбора присутствует в темпоральной организации событийного ряда. Ведь прошлое свидетельствует о себе только в срезе онтологической полноты настоящего. Темпоральность внутри настоящего, но и настоящее внутри темпоральности.
Именно настоящий момент адекватно онтологически актуальному запросу репрезентирует прошлое. Таким образом, каково истинно прошлое, указывает только настоящее, каждый момент производя ревизию в осознании прошлого: «Сократ не видит Платона, который видит С., но (вот в чем истина философии) только сзади. Нет ничего, кроме сзади, вида сзади, в том, что пишется, вот последнее слово. Все происходит в retro и a tergo».2 И всякий настоящий момент извлекает из недр прошлого истинную версию предшествия в событийности.
Эта концепция времени может быть названа экзистенциально-феноменологической. Следуя ей, мы можем интерпретировать изменения в представлении об уходящих в прошлое событиях как то, что не иллюзорно или условно, но обладает дескриптивной достоверностью субъективного опыта, раскрывающего онтологию связи событий. И мы можем в попытках последовательного уяснения признаков того, что поставляет нам интуитивное представление о времени, последовательно же и снимать, как недостаточные или несостоятельные, эти признаки, сохраняя некую «сквозную» интуицию о «нечто», репрезентируемом в принципиальности неотменяемого. Не имея качественных признаков, оно взаимопоглощается с интуицией о сознании. Тем самым такое «чистое время» и становится принципом того, во что оно вмещается. То есть — сознанием. Следуя такому представлению, мы имеем возможность описать ситуацию, сохраняя онтологическое наполнение в подчинении лишь только этой финальной фундаментальной интуиции. События претерпевают изменения в своих связях и отношениях.
Итак, во временном континууме осознаваемые образы бывших событий претерпевают тенденцию к слиянию в неразличимости в финитном моменте. Говоря о финитном моменте, мы имеем в виду только момент завершённости времени в ретроспективе осознания его в рефлексии. Это трансцендентный момент. Это то, дальше чего мысль не уходит, скользя в прошлое. Но она парадоксальным образом опознаёт его реализацию в снятии смысла в интегрирующем диалектическом акте. Это интуиция о «схлопывании времени».