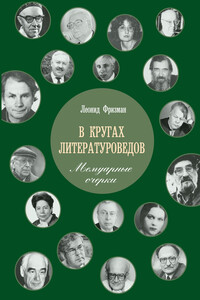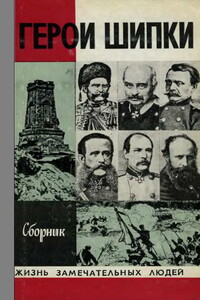Апостолы добра | страница 3
Поговорите со старшими — у каждого был любимый учитель. Десятки наставников забылись, чьи-то имена вспоминаются с неприязнью или злорадством — «как мы ее доводили!» — но у всех был и любимый учитель, который любил своих учеников, дарил им свою любовь и учил добру.
Наши учителя воспитывали нас и старались сделать людьми — советскими людьми послевоенной формации. Уверяю вас — это не худшая формация, и «шестидесятники» ХХ века, которых вырастила послевоенная школа — не худшая популяция русского человека.
А мы, учителя шестидесятых по системе «делай, как я», научились от наших послевоенных учителей летать — быть счастливыми, получать радость от самого этого труда. Взяли лучшее и поняли главное: как нет ничего лучше работы любимой, особенно учительской, так нет ничего страшнее работы нелюбимой, особенно педагогической. Это и есть ненавистная каторга. Вне зависимости от зарплаты. Хотя хорошая зарплата ни в каком деле никому не мешала. Впрочем, нас, публику 60-х, весьма склонную к самоиронии, согревал парадокс: мы занимались любимым делом, в придачу к которому нам еще и деньги платили! Мы, пережившие культ личности и последствия его разоблачения, вынужденные выскребать из души «сталинских солдатиков», какими были в раннем детстве, поняв, что человек должен научиться думать и оценивать окружающее своим умом, старались учить своих питомцев думать самостоятельно. А так как во многом оставались наивными и к тому же нам очень хотелось в 1980 году жить при коммунизме, мы воспитывали их идеалистами. Утешает то, что в абсолютном большинстве они, вскормленные высокой русской литературой Х1Х века и поэзией шестидесятых годов века ХХ, выросли порядочными людьми. Смею об этом громко заявить, потому что по сей день поддерживаю связь с выпускниками 1965 года Братской школы № 13…
Вниз по лестнице, ведущей вверх…
Однако, как мне на долгом веку довелось увидеть, авторитет учительской профессии от десятилетия к десятилетию неуклонно идет вниз. И есть тому причины объективные, которые если и можно нейтрализовать, то на государственном — или на сугубо личном! — уровне. Потому что учитель одну за другой продолжает терять опоры своего непререкаемого авторитета.
Напомним общеизвестное: в неграмотной России, особенно в русской деревне учитель если и не был единственным грамотеем, то уж во всяком случае своей образованностью на голову — простите невольный каламбур! — возвышался над окружающими. Его авторитет уступал — и то не всегда — только авторитету священника, за которым стояла Церковь, и притом Церковь — не как социальный институт и даже не как дом молитвы, а как Тело Христово, несущее человеку Свет Веры. Учитель был источником света — иного, идущего от человека, просветителем в полном смысле этого слова: представителем высокой гуманитарной русской культуры, сформированной в течение ХVIII-ХIХ веков. Выражаясь сухим современным языком, эксклюзивным источником позитивной информации о мире и человеке.