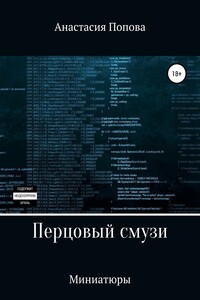Зрячая ночь. Сборник | страница 85
А кроме того, мама была оплотом надежности. Сколько я себя помнила, она приходила на помощь каждому, кто нуждался в ней. Тянула руку, хватала за шиворот и вытаскивала из любого болота. Всех, кроме меня. Сложно вытащить на твердую почву того, кто сам стал болотом. Рыхлым и мерзко пахнущим.
И пока мама входила в квартиру, стены которой помнили все наши ссоры и примирения, дни хорошие и дни плохие, я осматривалась кругом и пыталась вспомнить, какие вещи были здесь до моего побега. Этот ли чайник, как и новый ковер у дивана, как маленькая вазочка или вон тот горшок с цветком — символы, что жизнь в этих стенах продолжается?
— Привет, моя хорошая, — искренне, но слишком воодушевленно проговорила мама, опускаясь на стул и осторожно подхватывая мою руку своей. — Как добралась?
— Нормально. — Собственный голос был мне чужим, я попыталась улыбнуться, но щеки свело.
— Я ей рассказал, — встрял Миша, ставя перед мамой стакан с водой.
Она всегда пила чистую воду, смеялась, что вялые листочки нужно поливать, пыталась и меня приучить, но я жуть как не любила, когда в животе булькало. Особенно чистая вода.
Мама подняла голову к Мише, на мгновение они застыли так, теряя привычный облик, становясь просто уставшей от долгого дня женщиной, хрупкой, затянутой в офисный жакет, и мужчиной, еще молодым, но уже приближающимся к черте зрелости. Миша хмурился чуть виновато, комкал в руках кухонное полотенце в зеленый цветочек, а второй рукой опирался на спинку маминого стула. А та смотрела на сына снизу вверх, и лицо ее почти ничего не выражало. Растерянность только если. Растерянность и облегчение.
— Ну, все равно нужно было сказать. Я решил, лучше сразу, — пробурчал Миша, а мама кивнула. — И вроде бы ничего…
— Вообще-то, я все еще здесь.
Эта привычка говорить обо мне так, будто я не присутствую в комнате, была одной из причин моего отъезда. Если в двадцать брат с мамой говорят о тебе, как о маленьком ребенке, подхватившем противную, но не опасную болячку, ветрянку там какую-нибудь, то и уравновешенного человека может переклинить. Что уж говорить обо мне?
— Да, милая, прости. — Мама тут же отвернулась от Мишки. — Это хорошо, что ты знаешь… — И замолчала, подбирая слова.
Как сильно в тот момент мне хотелось закричать, схватить ее, притянуть к себе, сжать запястье так сильно, чтобы она почувствовала, как больно сейчас мне. Вопросы бурлили, как горный поток, срывающийся с вершины в конце весны. Почему я не знала, что дедушка болен? Почему мне не сообщили, что он умер? Почему мама не позвала меня с собой, когда ехала к нему в деревню, испуганная и растерянная? Неужели, в ней не пульсировала необходимость разделить беду с дочерью? Неужели я так отчаянно не нужна ей? Неужели за прошедший год все они научились жить без меня? Они — жить, а дедушка — сходить с ума и умирать?