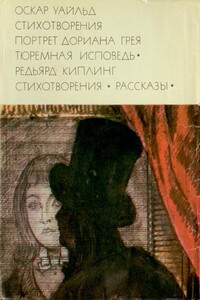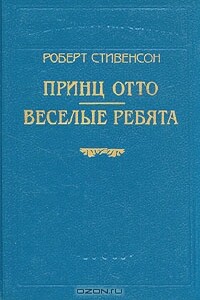Избранное | страница 48
Кузнецы-цыгане вечно надували деда то с гвоздями, то старое железо подсунут, и теперь дед, завидя какую цыганку, грозился взгреть ее…
— Не то они совсем на голову сядут, — говаривал он, довольный, когда ему удавалось припугнуть какую…
Мужики, возвращаясь с ярмарки, если их заставала в пути ночь или непогода, как водится, ночевали у нас.
Стукнется бродячий ремесленник, ищущий работу, — и его пускали в избу. Мы, дети, всем скопом обступали гостя, а дед донимал его вопросами, о чем только не выспрашивал…
А коли дедушка посылал еще и за паленкой да выпивал рюмочку, то, бывало, изливал душу, со слезами причитая — не приведи, господи, и нам, детям, когда так вот скитаться в поисках куска хлеба. Он верил всякому, когда тот говорил, что согласен на любую работу, лишь бы она была. И бродячий точильщик и часовщик всегда находили у нас приют.
Помню однажды, какой-то поляк, будто бы часовых дел мастер, недели две жил у нас с женой и двумя детьми. С нами они ели, с нами спали; и даже мать ни слова против этого не сказала — только потому, что, когда поляк с женой бухались на колени, молились и пели псалмы, конца-края этому не бывало. Бабушке и той это надоело, хотя сама она — как десять часов вечера — становилась коленями на скамеечку; дедушка не раз заставал ее в той же позе и в двенадцать. (Правда, несколько «отченашей» она дремала, а не молилась.) За такую набожность дед поляков хвалил, а поскольку дать он им ничего не мог, то просто играл со старшей девочкой; а когда жена поляка помогала нам по хозяйству, дедушка присматривал за младшей, лежавшей в подушках. Мы расстались с ними со слезами.
Корзинщики, стеклодувы, стекольщики и дротари — все шли к нам.
Если же кто и проходил мимо, дед, увидев его через окно, говорил: «Этот, поди, впервой в деревне». А как появится дротарь с маленьким помощником, то вся школа сбегалась к нам и пускалась с мальчишкой в разговоры.
Дедушка, бывало, отыскивал треснувший, никудышный горшок или миску, убеждая бабушку, что, если оплести проволокой, станет он как новенький, и садился рядом с ремесленником.
Года через два-три, когда я подрос, меня стали больше занимать разговоры старших, чем болтовня с мальчишкой. Если, к слову, за год приходило к нам двадцать человек, пятнадцать из них были старые знакомые деда, не важно, если он не помнил, как их зовут. И все же каждого он спрашивал, как его имя, откуда он… Это чтобы по нечаянности не назвать «Яна» «Мишей». После этого они садились, и дед продолжал расспросы: сколько тому лет, какое у него хозяйство, женат ли, а что сын, тем же ремеслом занимается («мать, дай же ему чего поесть»), и сколько у него еще детей, каков заработок и скоро ли в обратный путь и т. д. Сперва про домашнее хозяйство, потом — про деревню: есть ли церковь, школа, и учат ли детей «тралялякать» только по-венгерски, как у нас, и зачем это только делается — родной язык ведь и в самом же деле родной; как зовут священника (этого обычно никто не знал), много ли держат скота, велик ли надел, какие платят налоги, берут ли и с собак, корчма у них одна или больше — всего и не перечислишь. Дед курил и угощал табаком Яно Мышиту из Жилины, и был рад, если дротарю работы надолго хватало.