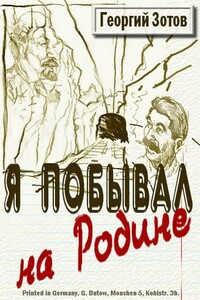Взгляд змия | страница 56
Рассказчик от зари до поздней ночи, никуда не выходя, сидел в темном углу корчмы рядом с печкой, и тогда этот часто пустующий угол бывал самым оживленным, полным мужчин и женщин. Между рассказчиком (до некоторого времени никто не знал его подлинного имени: на вопрос, как его зовут, он каждый раз отвечал по-другому) и его слушателями сразу же установились странные отношения. Люди хохотали почти над каждым его словом. Они и сами не знали, почему смеются. В историях не было ничего потешного, старик был скорее угрюмым, чем веселым. Но они смеялись, им было весело. Может быть, потому, что привыкли насмехаться над нищими и цыганами, а может, потому, что им просто было приятно сидеть в тепле, сытым, под хмельком, и слушать не совсем понятные им россказни (чай, они были в эти минуты счастливы?), Рассказчик не обижался. Может быть, во всех краях, которые он посетил, люди вели себя так же, и он привык. А может, он был слишком большим горемыкой, чтоб обижаться.
Столкнувшись с чем-нибудь любопытным, люди пытаются выяснить, где эта вещь или явление берут начало, веря, что познание источника ответит на вопрос, что это за вещь. Познакомившись с бродячим рассказчиком, они пытались выведать, откуда он родом.
Ходили разные слухи. Одни баяли, что он пришел из дальних стран, где рыбы умеют летать, другие – что он родился в этой округе и своим теперешним ремеслом занялся совсем недавно. Хозяевам корчмы он казался подозрительным, но они его не выгоняли, потому что он привлекал в шинок посетителей. Рассказчик прожил там ровно месяц и с первым снегом ушел, не оборачиваясь, чтобы посмотреть, как его следы отпечатываются на свежевыпавшем снегу, и больше не вернулся.
Его истории никак не повлияли на тех, кто его слушал, да и о нем самом вскоре забыли. Только одному человеку рассказчик показался и пророком, и попрошайничающим учителем, слова которого позже подтвердились. Человеком этим, испытавшим позже на своей шкуре, что общие и ни к чему не обязывающие пророчества могу порой принимать конкретный и ясный облик, была Пиме, нареченная Криступаса Мейжиса. Рассказчик был единственным человеком, с которым она была по-детски откровенна, она же была единственной, с кого он за беседы не брал ни денег, ни продуктов. Неизвестно, вспоминал ли он ее когда-нибудь позже, меся грязь проселочных дорог. Никто ничего больше о рассказчике не слышал.
Настоятель Пялужис сам рассказчика не видел, но вдоволь наслушался о нем от прихожан. Ему не нравился этот старик, возмутивший, по его мнению, покой людских умов, и однажды он упомянул это с амвона в полной верующих церкви. Когда вечером рассказчику пересказали его проповедь, тот только поморщился: