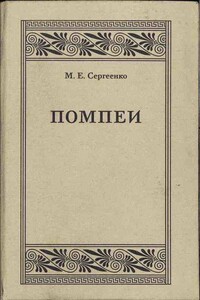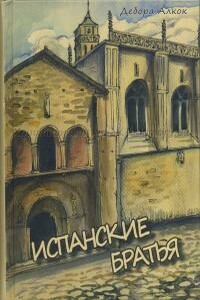Падение Икара | страница 38
Тит поселился в самой бедной части города и снял каморку в небольшом ветхом домишке, стены которого и спереди и сзади были подперты тонкими бревнышками. Каморка была без окон, с широкой дверью, открывавшейся прямо на улицу; несколько повыше человеческого роста и почти над всей каморкой шел дощатый настил, на который вела лестница.
— Я ведь сдаю тебе не одну комнату, а целых две, — юлил перед Титом молодой пройдоха грек, совсем недавно отпущенный на волю; дом был ему подарком от патрона, которому надоело слушать бесчисленные жалобы жильцов и возиться с вечным ремонтом. — Ты заживешь здесь, как царь: внизу у тебя мастерская, а наверху (подразумевался настил) — и спальня, и столовая, и таблин[62], и атрий. Право, ты снимаешь у меня целый особняк! А кроме того, ты можешь пользоваться двором: теши там себе на здоровье твои плиты. В Риме сейчас только надгробия и нужны: скоро ты станешь богат, как Крез! А у меня, кроме этого дома, ничего нет и не будет. Что? Десять сестерций? Боги бессмертные! Ты стал мне как брат с первого взгляда, но десять сестерций!.. Ты заставишь меня умереть от голоду… и от тоски, что я лишаюсь такого жильца. Ты ведь прославишь — я чувствую, что прославишь, — и этот дом, и весь переулок, и меня, ничтожного Нестора… Я не могу уже жить без тебя. Накинь еще хоть две сестерции… Ну хоть одну!
Переулок, обитателями которого стали Тит и Никий, был населен людьми без определенных занятий, которые добывали свой хлеб способами разными, порой очень подозрительными. Они уходили с раннего утра, и до позднего вечера их не было дома. Тишину нарушал только стук Титова молота и крик мальчишки из харчевни на углу: срывающимся голосом он выкликал достоинства горячей бобовой похлебки с салом, которой обносил все дворы. Молодая гадалка, уроженка испанского города Гадеса, нараспев зазывала клиентов. Иногда в эти обычные звуки врезалась резкая перебранка каких-то рослых молодцов, таинственно исчезавших и так же таинственно появлявшихся в доме напротив. Единственным занятием, за которым их здесь видели, была игра в кости, сопровождавшаяся неизменно дикими выкриками, выхватываньем ножей и угрозами.
Никий, растерявшийся перед новым, таким и чуждым и, казалось, страшным миром, вскоре, однако, с ним освоился и стал деятельным помощником Титу: бегал за покупками, пек репу и свеклу на жаровне в мастерской дяди или на очаге у соседа, сапожника, радушно зазывавшего к себе мальчика. Соседние мальчишки решили испытать пришельца и сыграть с ним несколько шуток. Для начала ему незаметно привесили сзади к поясу хвост, сплетенный из крепких веревочек с кисточкой внизу: каждому было ясно, что обладатель такого хвоста состоит в близком родстве с ослиной породой. Первая шутка оказалась и последней: Никий так изукрасил насмешников синяками и ссадинами (одному выбил даже зуб, к счастью молочный), что никому больше не приходило в голову его испытывать. Сам он, правда, тоже сильно пострадал: глаз у него открылся только через несколько дней, а нос походил, по словам Тита, сочувственно выслушавшего повесть о битве, на крупную хорошую грушу. Но положение себе Никий завоевал: его признали своим и равным; он вошел в товарищеский круг; называть его другом стало лестно.