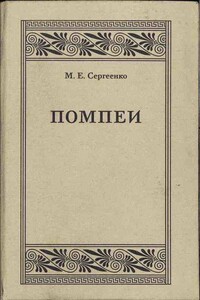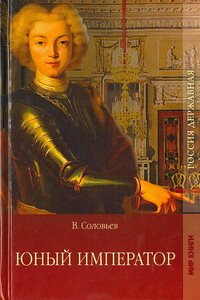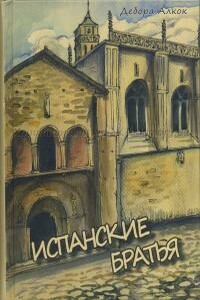Падение Икара | страница 37
Рим испугал и оглушил Никия, и с каждым шагом в этом грохоте и суете ему становилось страшнее. Сначала он спрашивал Тита и сообщал ему свои впечатления («Какие улицы! Да у нас в Вязах грядки шире!»), но скоро замолчал и, крепко ухватившись за руку дяди, только и думал о том, как бы ему не потеряться. Людской гомон, стук молотков и визг пил в мастерских, широко открытых на улицу, зазывания торговцев, выкрики разносчиков, предлагавших фрукты, хлеб и свежую воду, — все сливалось в такой гул, что и взрослому можно было с непривычки растеряться. Людская толпа заполняла полутемные, грязные узкие улицы, которые казались еще уже от высоких, трех- и четырехэтажных, домов; люди шли, бежали, толкались, обгоняли друг друга и друг на друга наталкивались. У мальчика, привыкшего к безмолвию деревни, к ее неторопливой, размеренной жизни, голова шла кругом. Ноги его скользили в жидкой грязи; чья-то корзинка больно стукнула его по голове; кто-то заехал локтем в нос. Вдруг люди шарахнулись и стали жаться к грязным, потрескавшимся стенам домов: четверо дюжих рабов в новеньких золотисто-рыжих туниках, расталкивая и расшвыривая людей, несли серединой улицы, заняв ее чуть ли не целиком, открытые носилки, в которых полулежал, полусидел молодой человек. Он был завит и надушен; на пальцах его и в ушах сверкали драгоценные камни. Он оглядывал толпу с презрительно-покровительственной усмешкой, которая обижала больше ударов.
— Любимец Суллы, Хрисогон! — шепотом пронеслось по толпе.
— Паршивый грек! Еще вчера был рабом! — прошипел кто-то над ухом Никия.
Тит проводил носилки взглядом, горевшим ненавистью.
Мальчику казалось, что их путешествию не будет конца.
— Сейчас, сейчас, — утешал его Тит. — Пройдем еще немного по Субуре[61], и скоро дом.
По Субуре! Здесь стоял такой шум и гвалт, что остальные улицы казались тихими. Чего тут только не было! Лавки со всякой снедью; мастерские — шорные, сапожные, слесарные. Сапожник кроил кожу прямо на тротуаре; его подмастерье приколачивал на колодке подошву к грубому солдатскому сапогу. Рядом медник ловкими и быстрыми ударами молота расплющивал на наковальне полосу металла. Истошным голосом вопил мальчишка, пойманный как раз в ту минуту, когда он запустил руку в корзинку с орехами; торговец нещадно драл его за уши, визгливо приговаривая: «Не воруй, не воруй!» Тут же, в маленькой комнатенке, где была раньше лавка, помещалась школа. Хор детских голосов не умолкая твердил: «Один да один — два; два да два — четыре; один да один — два». Жестокой бранью осыпала женщина продавца, подсунувшего ей тухлые яйца… Никий уже ничего не видел, ни на что не смотрел. В ушах у него стоял гул, он боялся упасть; тротуар куда-то уходил из-под его ног. Тит круто повернул куда-то вправо, потом еще куда-то, еще куда-то, и они очутились в совершенно тихом, безымянном переулке. Переход от шума к тишине был так неожидан, что Никий в первую минуту испугался, не оглох ли он.