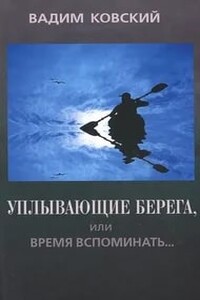Ландшафты Зазеркалья | страница 24
Это не могло случиться по одной простой причине: все персонажи фединского сообщения были давно уничтожены. Бабеля, вопреки ложной дате «Краткой литературной энциклопедии», расстреляли 27 января 1940 года в 1:30 ночи. В списке из шестнадцати человек, составленном строго по алфавиту (орднунг!), он шел под номером вторым…
СОПРОТИВЛЯЮЩАЯСЯ ЛИТЕРАТУРА
Послеоктябрьская российская действительность в кратчайшие сроки породила литературу, принципиально отличавшуюся от прежней. Захлестываемая волнами революции и Гражданской войны, она была отмечена драматическими противоречиями между гуманизмом и классовой ненавистью; тяготением к классической традиции и неудержимым стремлением к разрыву с ней; усложнившимися художественными звучаниями и требованиями полуграмотной читательской массы, нуждавшейся в прямолинейном выражении авторской позиции.
За всеми этими противоречиями стояла реальная общественная практика революционной эпохи с ее диктатом предельно жесткого, функционально-классового отношения к культуре. Содержательная новизна порождала тот напряженный интерес к проблемам формы, который в литературном процессе 1920-х и даже первой половины 1930-х был очень силен. «Метод» и стиль, который принято будет впоследствии называть «социалистическим реализмом», воцарился в дооктябрьской литературе далеко не сразу. Вероятно, никому не придет в голову рассматривать под этим знаком имена И. Бабеля, М. Булгакова, А. Ахматовой, Е. Замятина, О. Мандельштама, М. Цветаевой, Б. Пастернака, М. Пришвина, М. Зощенко, Н. Заболоцкого, даже А. Платонова, великого писателя, создавшего вопреки своим коммунистическим взглядам самую беспощадную сатиру на советскую власть. Но ведь и целый ряд других писателей, принявших революцию и гораздо менее известных, таких как Михаил Слонимский, Михаил Козырев, Иван Катаев, Юрий Слезкин, Пантелеймон Романов и других, тоже сплошь и рядом по своим творческим принципам не укладывается в каноны «партийности», «народности» и так называемой «правды жизни в ее революционном развитии». Художественное мировосприятие этих писателей всеми силами сопротивлялось наступлению новой действительности на традиционные гуманистические ценности.
«Сопротивляющиеся» произведения первого ряда и имена их создателей исследованы вдоль и поперек, и я сознательно делаю сейчас объектом рассмотрения литературу второго ряда, тот планктон, достаточно случайно попадавшийся мне на глаза, кроме, разумеется, имени Горького, который и представляет реальный литературный процесс. При этом сама принадлежность Горького к ордену соцреализма, да еще в роли его основоположника, вызывает у меня чем дальше, тем больше сомнений (за исключением разве что нескольких ранних романтических манифестов, деклараций отдельных персонажей и считанных публицистических статей). Стоит назвать «Челкаша», «Мальву», «Детство», «Дело Артамоновых», «Фому Гордеева», «Коновалова», «Вассу Железнову» и мало ли что еще — не вижу я там социалистического реализма даже в лупу! Да и злосчастный роман «Мать» Д. Быков, например, рассматривает сегодня с совершенно иной точки зрения — сквозь призму религиозной символики.