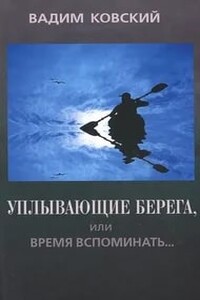Ландшафты Зазеркалья | страница 16
Известным писателям, квалифицировавшимся советской властью, по терминологии Троцкого, как «попутчики» (И. Бабель, Б. Пильняк, С. Есенин, М. Зощенко, С. Клычков, О. Мандельштам, М. Пришвин, М. Волошин, А.Н. Толстой, В. Шишков, О. Форш и многие другие), приходилось начиняя с 1924 года непрерывно доказывать свою лояльность революции. Культура, искусство, печать находились под жестким, пристальным и придирчивым до мелочности наблюдением партийных инстанций. Не было ни малейшего закоулка и щели в творчестве, жизни и быте деятелей культуры, куда бы партийная власть, грубо говоря, не лезла с окриками, требованиями и указаниями.
Тоталитарный режим «лепил» жизнь как хотел. Сам создавал «вторую» действительность, которую успешно выдавал за «первую». Нагнетал трудности, чтобы их разрешать, «завинчивал гайки», чтобы их ослабить. Жертвой этой дьявольской игры становились не только противники режима, но и его друзья, которые без колебаний «бросали с парохода современности» все, что большевики предписывали им сбросить. После выполнения предназначенной роли с парохода сбрасывали их самих.
Отвечая на обвинения в политической ангажированности, Маяковский вызывающе легко решал эту проблему: а я и хочу, чтобы мне велели. Но что же велели? Документы «партийного руководства» культурой — это список бесконечных правил, угроз и репрессий. Если мы пройдемся по нему, то увидим, что партия вовсе не ограничивалась литературой. Она вмешивалась во все сферы культуры: в музыку и живопись, в архитектуру и журналистику, в любую литературу вплоть до детской, наводя в них порядок и успешно играя роль грибоедовского фельдфебеля («…Он в три шеренги вас построит, / А пикнете, так мигом успокоит»).
Как судейские приговоры звучат даже сами названия партийных постановлений, начиная с 1920—30 годов и кончая началом 1950-х. «К преступлениям и проступкам путем использования печати относятся всякие сообщения ложных или извращенных сведений о явлениях общественной жизни…» (Декрет СНК «О Революционном трибунале печати», январь 1918). «Под видом „пролетарской культуры“ рабочим преподносили буржуазные взгляды в философии (махизм), а в области искусства нелепые, извращенные вкусы (футуризм)» (Письмо ЦК РКП «О Пролеткультах», декабрь 1920). «Признавая, что „Повесть непогашенной луны“ Пильняка является злостным, контрреволюционным и клеветническим выпадом против ЦК и партии, подтвердить изъятие пятой книги „Нового мира“ (Постановление Политбюро о повести Б.А. Пильняка, май 1926). «Принять предложение комиссии Политбюро о нецелесообразности постановки пьесы в театре» (Постановление Политбюро о запрещении пьесы М.А. Булгакова «Бег», январь 1929). Забавно, что разобраться с пьесой Сталин просит такого знатока литературы, как Ворошилов.