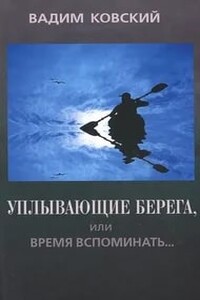Ландшафты Зазеркалья | страница 15
Отдельные писатели повели себя непредусмотрительно и перед съездом, в кулуарах съезда или в частных разговорах отзывались о нем без должного пиетета или даже резко критически. Эти высказывания НКВД внимательно фиксировал. «Все думаю, как бы поскорее уехать — скука невыносимая…» (М. Пришвин). «Все-таки хожу сюда сам не знаю зачем. Ведь сознаю отчетливо, что мне в этой лакейской не место» (В. Правдухин). «Доклад Горького… очень тяжелое зрелище: в выступлении не чувствовалось ни грамма энтузиазма» (П. Романов). «…съезд проходит мертво, как царский парад, и этому параду, конечно, никто за границей не верит. Пусть раздувает наша пресса глупые вымыслы о колоссальном воодушевлении делегатов» (И. Бабель). «Доклад Бухарина поверхностный, но талантливый и темпераментный. А в прениях вылезли все пауки из банки…» (Б. Лавренев). «Смехотворные речи, над которыми следующие поколения будут издеваться… И я и Клычков поставлены в ужаснейшие условия… Мы доживаем наши дни в литературной блевотине» (П. Орешин).
М. Горький отказался возглавить вновь созданный Союз, и во главе был поставлен А.С. Щербаков, заведовавший в то время отделом культурно-просветительской работы ЦК ВКП(б). В 1935 году он повез делегацию советских писателей на Парижский конгресс в защиту культуры, и его дальнейшая успешная партийная карьера (впоследствии он был секретарем МК и секретарем ЦК) свидетельствовала, что номенклатурные партийцы годятся для любых обязанностей — лишь бы партия велела…
Писательским съездом Политбюро, надо полагать, осталось довольно. Были избраны правление, ревизионная комиссия, и машина исправно заскрипела. Параллельно с Союзом писателей произошла организация творческих союзов по всем направлениям искусства; затем был установлен надзор за этими творческими союзами со стороны Комитета по делам искусств; затем — надзор над самим Комитетом в соответствующих центральных партийных органах и т. д. и т. п.
Постоянно упражнялись в литературной критике вожди ленинского призыва, весь этот «тонкий слой» интеллектуальной большевистской элиты, концептуально продумывавшей и редактировавшей наиболее важные партийные постановления по вопросам литературы, культуры, издательского дела. Идеологические понятия, установки и позиции проецировались на художественное сознание и саму литературу, непосредственно сказываясь на типологии персонажей, конфликтах и общем звучании произведений. Ленинские теоретические разработки и тезисы партийной публицистики перелагались на язык литературной критики. Бухарин, Троцкий, Луначарский сами были незаурядными публицистами и критиками.