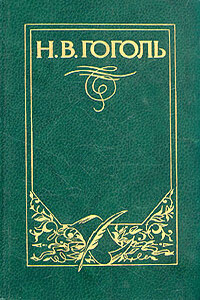Вий | страница 11
Один казак, бывший постарее всех других, с седыми усами, подставивши руку под щеку, начал рыдать от души о том, что у него нет ни отца, ни матери, что он остался одним один на свете. Другой был большой резонер и беспрестанно утешал его, говоря: «Не плачь, ей Богу, не плачь! Что ж тут… уж Бог знает, как и что такое». Один, по имени Дорош, сделался чрезвычайно любопытен и, оборотившись к философу Хоме, беспрестанно спрашивал его:
— Я хотел бы знать, чему у вас в бурсе учат: тому ли самому, что и дьяк читает в церкви, или чему другому?
— Не спрашивай! — говорил протяжно резонер, — пусть его там будет, как было. Бог уже знает, как нужно; Бог все знает.
— Нет, я хочу знать, — говорил Дорош, — что там написано в тех книжках; может быть, совсем другое, чем у дьяка.
— О Боже мой, Боже мой! — говорил этот почтенный наставник, — и на что такое говорить? Так уже воля Божия положила: уже что Бог дал, того не можно переменить.
— Я хочу знать все, что ни написано; я пойду в бурсу, ей Богу, пойду. Что ты думаешь, я не выучусь? Всему выучусь, всему!
— О Боже ж мой, Боже мой!.. — говорил утешитель и спустил свою голову на стол, потому что совершенно был не в силах держать ее долее на плечах. Прочие казаки толковали о панах и о том, отчего на небе светит месяц.
Философ Хома, увидя такое расположение голов, решился воспользоваться и улизнуть. Он сначала обратился к седовласому казаку, грустившему об отце и матери:
— Что ж ты, дядько, расплакался? — сказал он, — я сам сирота! Отпустите меня, ребята, на волю! на что я вам?
— Пустим его на волю? — отозвались некоторые, ведь он сирота; пусть себе идет, куда хочет.
— О Боже-ж мой! Боже мой! — произнес утешитель, подняв свою голову, — отпустите его! Пусть идет себе!
И казаки уже хотели сами вывесть его в чистое поле; но тот, который показал свое любопытство, остановил их, сказавши:
— Не трогайте: я хочу с ним поговорить о бурсе; я сам пойду в бурсу…
Впрочем, вряд ли бы этот побег мог совершиться, потому что когда философ вздумал подняться из-за стола, то ноги его сделались как-будто деревянными, и дверей в комнате начало представляться ему такое множество, что вряд ли бы он отыскал настоящую.
Только ввечеру вся эта компания вспомнила, что нужно отправиться далее в дорогу. Взмостившись в брику, они потянулись, погоняя лошадей и напевая песню, которой слова и смысл вряд ли бы кто разобрал. Проколесивши большую половину ночи, беспрестанно сбиваясь с дороги, выученной наизусть, они наконец спустились с крутой горы в долину, и философ заметил по сторонам тянувшийся частокол, или плетень, с низенькими деревьями и выказывавшимися из-за них крышами. Это было большое селение, принадлежавшее сотнику. Уже было далеко за полночь; небеса были темны, и маленькие звездочки мелькали кое-где; ни в одной хате не видно было огня. Они въехали, в сопровождении собачьего лая, во двор. С обеих сторон были заметны крытые соломою сараи и домики; один из них, находившийся как раз посредине против ворот, был более других и служил, как казалось, пребыванием сотника. Брика остановилась перед небольшим подобием сарая, и путешественники наши отправились спать. Философ хотел однако же несколько осмотреть снаружи панские хоромы; но, как он ни пялил свои глаза, ни что не могло означиться в ясном виде: вместо дома представлялся ему медведь; из трубы делался ректор. Философ махнул рукою и пошел спать.