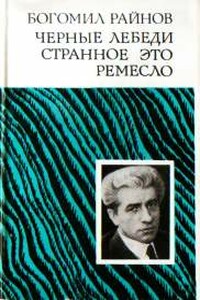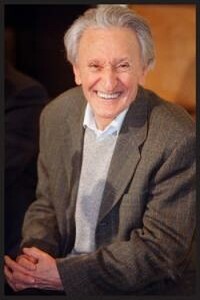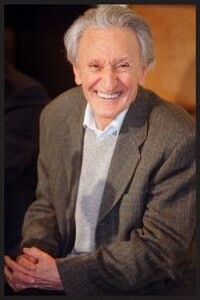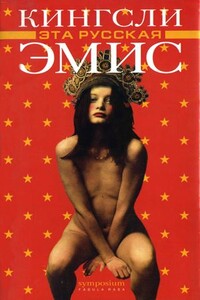Избранное | страница 22
Я повернулся и стал смотреть в поле. Собака трусила к нам, но не прямо, а обходом, по какой-то дуге, дядя Никола вел коров, они упирались, дядя бил их стрекалом по мордам и матерился. Собака Лишко подошла, села и уставилась в то место позади меня, где лежал отец.
Я обернулся и тогда увидел муху. Она ползла по отцовскому лицу, залезла на закатившиеся глаза, но на лице его не дрогнул ни один мускул, и даже веками он не шевельнул, чтобы прогнать муху. Я наклонился и прогнал муху рукой, она пожужжала над нами и снова села на папино лицо. Тогда мне вдруг стало жалко его, я упал на колени, слезы хлынули у меня из глаз, и я беззвучно заплакал.
Отченаш наклонился и закрыл отцу глаза.
Пока дядя Никола не привел коров, он отгонял муху, а когда дядя подошел, чабан стал помогать ему приладить боковину и принести днище. Из глаз у меня лились слезы, боль из тела постепенно уходила, и ее место занимало горе. Я плакал и время от времени прогонял муху, которая все кружила над отцом и все садилась и садилась на его успокоившееся, странно отвердевшее лицо.
Чабан и дядя Никола принесли днище и стали приводить телегу в порядок, коровы были неспокойны, и дядя несколько раз покрикивал на них, чтоб стояли тихо. Они повернули головы и смотрели на отца своими невыразительными глазами, словно кто другой, а не они это сделали. Потом они принялись за свою жвачку, и тогда дядя Никола разозлился, схватил постромки, взял у чабана палку и стал бить их по мордам. Коровы мычали и дергались, но дядя, крепко держа постромки, изо всей силы лупил их по мордам, ругал их и матерился. «Оставь, — сказал Отченаш, — животные не виноваты!» Дядя Никола подозвал меня и велел держать постромки у коровьих морд, а они с чабаном перенесли отца и положили его на телегу. В ноги ему дядя поставил и свой мешок с подковами, перекрестился, а чабан пошел и принес упавшую косу. Пока он ее насаживал, дядя рассказывал, как он увидел, что коровы понесли, как мы вывалились из телеги, но ему и в голову не приходило, что кого-то задавило. И когда он увидел отца, то тоже удивлялся, как же это так случилось, но когда пошел за телегой — смотрит: железный штырь, который придерживает заднюю ось, свисает на целую пядь вниз. Этот штырь врезался в отца и убил его на месте, потому что колеи здесь очень глубокие, полоска земли между ними высокая, и видно, как железо не только пропороло отца, но и пропахало всю дорогу.
И правда, на приподнятой средней полосе дороги видна была неровная бороздка, оставленная железом. Дядя Никола перекрестился, сказал: «Ну, поехали!» — и я повел коров обратно к деревне. Когда мы подошли к сломанной и раздробленной грядке, мы остановились, мой будущий опекун откинул с дороги обломки, взял постромки и сказал: «Давай я поведу, а если тебя ноги не держат, иди сядь сзади в телегу!..» Я не сел, а пошел рядом с отцом. Голова его подскакивала на дне телеги, руки двигались, казалось, что он спит. Муха все так же кружила над ним, садилась на лицо, но, когда телегу встряхивало, она улетала, кружила в воздухе и снова возвращалась. Собака бежала рядом с телегой, посматривала на отца, и хвост у нее был поджат, как будто она была в чем-то виновата. Все казалось мне нелепым и бесконечно горестным: дядя Никола, держа кепку в руке, то и дело оборачивается назад, крестится и зовет меня к себе: наверное, но хочет, чтоб я шел рядом с отцом и непрерывно смотрел на него. Я иду к нему и, хотя смотрю вперед на дорогу, все время вижу отцовское лицо с мухой и телегу с одной только боковиной. Если бы было две грядки, мне как будто было бы легче, а то только днище и одна грядка. Собаке боязно оставаться рядом с отцом, она догоняет нас, и так мы втроем входим в деревню, и, когда мы сворачиваем на нашу улицу, от дома доносится вопль.