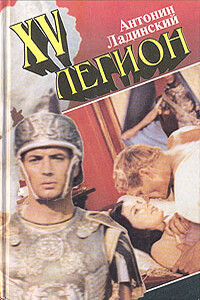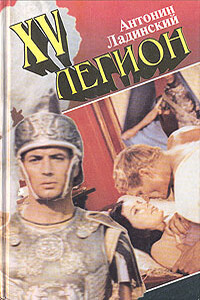Огненный азимут | страница 32
— А о себе ты подумал? Тебя ведь на самой высвкой осине повесят. Депутат, орденоносец... Кого же им вешать, как не тебя?
Встретив знакомого человека, Никита воспрянул духом и, как когда-то на совещаниях, отпускал грубые, соленые шутки. Все сомнения и страхи остались на возу со Степанидой и детьми.
— Я уже думал, одного меня повесят. И руки перед смертью некому будет пожать. Ну ничего, Станислав Титович, будем умирать, так с музыкой и "Интернационалом". Закурить есть? А то последнюю махру солдатам роздал.
Покурили, поговорили о десантах, самолетах и диверсиях противника, вспомнили, как однажды закатили им на бюро по выговору и они от досады распили пол-литра в райкомовском подъезде. Обменялись мыслями о перспективах войны, согласились, что англичане слабоваты, да и к тому же консерваторы. Американцы — те ничего, но на выручку спешить не будут. Привыкли наживаться на войнах. Сокрушенно покачали головами: трудновато будет.
Степаниде, видимо, надоело ждать. Столкнув с воза мальчика — вылитый Никита Саморос! — она послала его за отцом.
Мальчик тянул отца за штанину, скулил:
— Папка, ну, папка, пойдем уж...
— Отстань ты! — цыкнул Никита. — Не видишь — занят.
Коршуков взял жестяной ковш, зачерпнул сметаны, подал мальчику:
— Бери, выпей.
Мальчик, сопя носом, с жадностью пил теплую, жидкую и уже кисловатую сметану.
— Вот, брат, настало времечко, — развеселился Саморос.— Раньше за этот литр ты бы с меня деньги содрал, а теперь поишь даром. Любо-дорого.
— Давай и тебе зачерпну.
— Я до молочного не охоч... Ты что, серьезно, домой едешь? Вот я, так побаиваюсь. Говорят, немцы сильно лютуют.
Коршуков махнул рукой:
— Мало ли что говорят. Они на нас, мы на них пишем. Поживем — увидим, как оно пойдет. Торопиться некуда.
Говорил Коршуков рассудительно, но Саморос не мог понять, шутит ли он или притворяется. Черт его разберет, этого тишковского председателя, он всегда был хитрецом! Бывало, убедит всех, что сеять еще рано, а сам посеет и хохочет — обманул и первую премию отхватил.
— Ты свои шуточки, Коршуков, брось. Теперь не до них. Тут жизнь на карту поставлена.
— А я и не шучу. Пристал ты ко мне, как колючка к собачьему хвосту: не отдерешь. Одно тебе скажу: ежели боишься, пересиди где-либо в укромном местечке, пока фронт пройдет, а потом признайся, повинись. Авось простят... — Он снова усмехнулся и, как-то сразу погасив усмешку, добавил : — А теперь, прости, надо идти хозяйство смотреть.