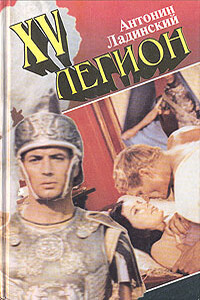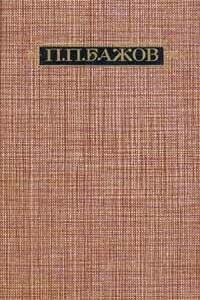Огненный азимут | страница 33
Сутулясь, Коршуков зашагал к дояркам. Саморос удивленно смотрел ему вслед.
До дома оставалось верст пятьдесят. За речкой выбрались на дорогу. Ни кустов, ни деревьев — голое место. То там, то тут лепились к пригоркам деревни, такие же унылые и пустынные, как дорога. Ни людей, ни скота.
Припекало солнце, бурая выгоревшая земля не радовала Глаз. Из канав несло тиной. Надоедливо, однообразно квакали лягушки. Все было не так, как дома. Пусто, неуютно.
Саморос после разговора с Коршуковым увял. Он молча шагал рядом о возом. Хотелось упасть на землю и лежать недвижимо, чувствовать острый запах трав, видеть синее-синее небо и мысленно жить таким душевно близким вчерашним днем. Сегодняшнего не было, и не на что надеяться.
Степанида плакала, шмыгала распухшим носом, прижимала к своей огромной груди младших — Валерку и Олечку. Колючая боль разрывала Саморосу сердце, мутила и без того набухшую отчаяньем голову.
"Шутил Коршуков или притворялся?" — может, в сотый раз спрашивал себя Саморос. И вдруг удивительно простой ответ осенил Никиту: "Коршуков хитрил, не поверив ни одному моему слову: подумал, что я нарочно остался у немцев".
Выло обидно. Злил недоверчивый, всегда скрытный Коршуков. "Мне, Саморосу, не поверил. Ах ты, шляхтич проклятый! Забыл, как в тридцать первом воевал с кулаками? Как громил троцкистов? Никогда ни вправо, ни влево не колебался. Шел по генеральной линии, как поезд по рельсам. А он не доверяет".
Саморос отчетливо видел свою смерть. Стоит на краю ямы, а солдаты целятся ему в самое сердце, закрытое партийным билетом. Саморос стоит прямо, с высоко поднятой головой. "Да здравствует партия!" Залп, и он падает в черную яму. "Хороший был человек Саморос, наш, коммунист, — скажут когда-нибудь товарищи и с упреком посмотрят на Коршукова. — А ты ему не верил!"
Печальная мысль отозвалась в груди острой болью, умилила до слез. Саморос незаметно смахнул слезу, проглотил горький полынный комок, подкативший к горлу.
Под вечер конь едва плелся, лениво помахивая хвостом, когда его безжалостно стегали лозиной, и по-человечьи озирался в оглоблях, словно искал сочувствия.
Остановились в деревушке, окруженной большим болотом. Старенькая бабушка постелила детям на полу, Степанида полезла на печку. Никиту сон не брал — неотступно преследовали мысли о фронте, о Коршукове, о своей незадачливой судьбе. Спасаясь от них, Никита вышел на улицу. На завалинке светились в темноте цигарки, слышались приглушенные слова: